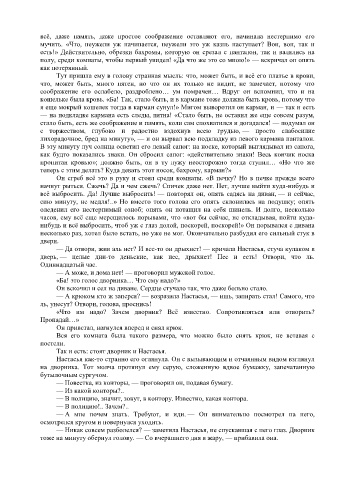Page 46 - Преступление и наказание
P. 46
всё, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его
мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и
есть!» Действительно, обрезки бахромы, которую он срезал с панталон, так и валялись на
полу, среди комнаты, чтобы первый увидел! «Да что же это со мною!» — вскричал он опять
как потерянный.
Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и всё его платье в крови,
что, может быть, много пятен, но что он их только не видит, не замечает, потому что
соображение его ослабело, раздроблено… ум помрачен… Вдруг он вспомнил, что и на
кошельке была кровь. «Ба! Так, стало быть, и в кармане тоже должна быть кровь, потому что
я еще мокрый кошелек тогда в карман сунул!» Мигом выворотил он карман, и — так и есть
— на подкладке кармана есть следы, пятна! «Стало быть, не оставил же еще совсем разум,
стало быть, есть же соображение и память, коли сам спохватился и догадался! — подумал он
с торжеством, глубоко и радостно вздохнув всею грудью, — просто слабосилие
лихорадочное, бред на минуту», — и он вырвал всю подкладку из левого кармана панталон.
В эту минуту луч солнца осветил его левый сапог: на носке, который выглядывал из сапога,
как будто показались знаки. Он сбросил сапог: «действительно знаки! Весь кончик носка
пропитан кровью»; должно быть, он в ту лужу неосторожно тогда ступил… «Но что же
теперь с этим делать? Куда девать этот носок, бахрому, карман?»
Он сгреб всё это в руку и стоял среди комнаты. «В печку? Но в печке прежде всего
начнут рыться. Сжечь? Да и чем сжечь? Спичек даже нет. Нет, лучше выйти куда-нибудь и
всё выбросить. Да! Лучше выбросить! — повторял он, опять садясь на диван, — и сейчас,
сию минуту, не медля!..» Но вместо того голова его опять склонилась на подушку; опять
оледенил его нестерпимый озноб; опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько
часов, ему всё еще мерещилось порывами, что «вот бы сейчас, не откладывая, пойти куда-
нибудь и всё выбросить, чтоб уж с глаз долой, поскорей, поскорей!» Он порывался с дивана
несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в
двери.
— Да отвори, жив аль нет? И все-то он дрыхнет! — кричала Настасья, стуча кулаком в
дверь, — целые дни-то деньские, как пес, дрыхнет! Пес и есть! Отвори, что ль.
Одиннадцатый час.
— А може, и дома нет! — проговорил мужской голос.
«Ба! это голос дворника… Что ему надо?»
Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало.
— А крюком кто ж заперся? — возразила Настасья, — ишь, запирать стал! Самого, что
ль, унесут? Отвори, голова, проснись!
«Что им надо? Зачем дворник? Всё известно. Сопротивляться или отворить?
Пропадай…»
Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк.
Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с
постели.
Так и есть: стоят дворник и Настасья.
Настасья как-то странно его оглянула. Он с вызывающим и отчаянным видом взглянул
на дворника. Тот молча протянул ему серую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную
бутылочным сургучом.
— Повестка, из конторы, — проговорил он, подавая бумагу.
— Из какой конторы?..
— В полицию, значит, зовут, в контору. Известно, какая контора.
— В полицию!.. Зачем?..
— А мне почем знать. Требуют, и иди. — Он внимательно посмотрел на него,
осмотрелся кругом и повернулся уходить.
— Никак совсем разболелся? — заметила Настасья, не спускавшая с него глаз. Дворник
тоже на минуту обернул голову. — Со вчерашнего дня в жару, — прибавила она.