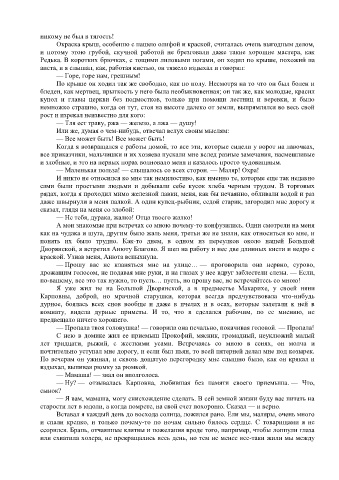Page 220 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 220
никому не был в тягость!
Окраска крыш, особенно с нашею олифой и краской, считалась очень выгодным делом,
и потому этою грубой, скучной работой не брезговали даже такие хорошие мастера, как
Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожий на
аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил:
— Горе, горе нам, грешным!
По крыше он ходил так же свободно, как по полу. Несмотря на то что он был болен и
бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная; он так же, как молодые, красил
купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестниц и веревки, и было
немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте далеко от земли, выпрямлялся во весь свой
рост и изрекал неизвестно для кого:
— Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу!
Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям:
— Все может быть! Все может быть!
Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках,
все приказчики, мальчишки и их хозяева пускали мне вслед разные замечания, насмешливые
и злобные, и это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным.
— Маленькая польза! — слышалось со всех сторон. — Маляр! Охра!
И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно
сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых
рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня, как бы нечаянно, обливали водой и раз
даже швырнули в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, загородил мне дорогу и
сказал, глядя на меня со злобой:
— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!
А мои знакомые при встречах со мною почему-то конфузились. Одни смотрели на меня
как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и
понять их было трудно. Как-то днем, в одном из переулков около нашей Большой
Дворянской, я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинных кисти и ведро с
краской. Узнав меня, Анюта вспыхнула.
— Прошу вас не кланяться мне на улице… — проговорила она нервно, сурово,
дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы. — Если,
по-вашему, все это так нужно, то пусть… пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мною!
Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни
Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь
дурное, боялась всех снов вообще и даже в пчелах и в осах, которые залетали к ней в
комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не
предвещало ничего хорошего.
— Пропала твоя головушка! — говорила она печально, покачивая головой. — Пропала!
С нею в домике жил ее приемыш Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый
лет тридцати, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мною в сенях, он молча и
почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек.
По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне слышно было, как он крякал и
вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой.
— Мамаша! — звал он вполголоса.
— Ну? — отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша. — Что,
сынок?
— Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. В сей земной жизни буду вас питать на
старости лет в юдоли, а когда помрете, на свой счет похороню. Сказал — и верно.
Вставал я каждый день до восхода солнца, ложился рано. Ели мы, маляры, очень много
и спали крепко, и только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не
ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания вроде того, например, чтобы лопнули глаза
или схватила холера, не прекращались весь день, но тем не менее все-таки жили мы между