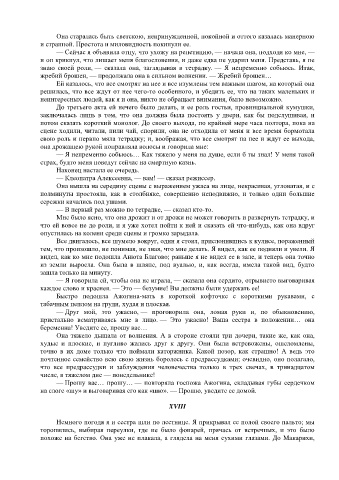Page 247 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 247
Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною
и странной. Простота и миловидность покинули ее.
— Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию, — начала она, подходя ко мне, —
и он крикнул, что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня. Представь, я не
знаю своей роли, — сказала она, заглядывая в тетрадку. — Я непременно собьюсь. Итак,
жребий брошен, — продолжала она в сильном волнении. — Жребий брошен…
Ей казалось, что все смотрят на нее и все изумлены тем важным шагом, на который она
решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и
неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно.
До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостьи, провинциальной кумушки,
заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и
потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере часа полтора, пока на
сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и все время бормотала
свою роль и нервно мяла тетрадку; и, воображая, что все смотрят на нее и ждут ее выхода,
она дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:
— Я непременно собьюсь… Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой
страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь.
Наконец настала ее очередь.
— Клеопатра Алексеевна, — вам! — сказал режиссер.
Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с
полминуты простояла, как в столбняке, совершенно неподвижно, и только одни большие
сережки качались под ушами.
— В первый раз можно по тетрадке, — сказал кто-то.
Мне было ясно, что она дрожит и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку, и
что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать ей что-нибудь, как она вдруг
опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала.
Все двигалось, все шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный
тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать. Я видел, как ее подняли и увели. Я
видел, как ко мне подошла Анюта Благово; раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно
из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто
зашла только на минуту.
— Я говорила ей, чтобы она не играла, — сказала она сердито, отрывисто выговаривая
каждое слово и краснея. — Это — безумие! Вы должны были удержать ее!
Быстро подошла Ажогина-мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с
табачным пеплом на груди, худая и плоская.
— Друг мой, это ужасно, — проговорила она, ломая руки и, по обыкновению,
пристально всматриваясь мне в лицо. — Это ужасно! Ваша сестра в положении… она
беременна! Уведите ее, прошу вас…
Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она,
худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены,
точно в их доме только что поймали каторжника. Какой позор, как страшно! А ведь это
почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками; очевидно, оно полагало,
что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в тринадцатом
числе, в тяжелом дне — понедельнике!
— Прошу вас… прошу… — повторяла госпожа Ажогина, складывая губы сердечком
на слоге «шу» и выговаривая его как «шю». — Прошю, уведите ее домой.
XVIII
Немного погодя я и сестра шли по лестнице. Я прикрывал ее полой своего пальто; мы
торопились, выбирая переулки, где не было фонарей, прячась от встречных, и это было
похоже на бегство. Она уже не плакала, а глядела на меня сухими глазами. До Макарихи,