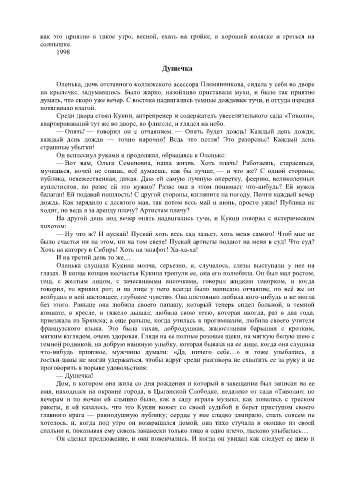Page 307 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 307
как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на
солнышке.
1998
Душечка
Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе
на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно
думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка
потягивало влагой.
Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи»,
квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.
— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди,
каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день
страшные убытки!
Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:
— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься,
мучишься, ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны,
публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных
куплетистов, по разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен
балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер
дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не
ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?
На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим
хохотом:
— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не
было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд?
Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!
И на третий день то же…
Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на
глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом,
тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда
говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он
возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла
без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной
комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года,
приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя
французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким,
мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с
темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала
что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе…» и тоже улыбались, а
гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не
проговорить в порыве удовольствия:
— Душечка!
Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее
имя, находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по
вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском
ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего
главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не
хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тпхо стучала в окошко из своей
спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась…
Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и