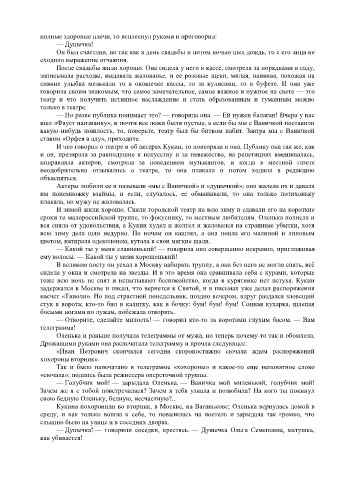Page 308 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 308
полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:
— Душечка!
Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не
сходило выражение отчаяния.
После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду,
записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на
сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже
говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это
театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно
только в театре.
— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас
шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили
какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой
ставим «Орфея в аду», приходите.
И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как
и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась,
поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете
неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию
объясняться.
Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала
им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку
плакала, но мужу не жаловалась.
И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие
сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и
вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя
всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым
цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.
— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая
ему волосы. — Какой ты у меня хорошенький!
В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, всё
сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые
тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин
задержался в Москве и писал, что вернется к Святой, и в письмах уже делал распоряжения
насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий
стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая
босыми ногами по лужам, побежала отворять.
— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам
телеграмма!
Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела.
Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:
«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений
хохороны вторник».
Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово
«сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.
— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой!
Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул
свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..
Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в
среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что
слышно было на улице и в соседних дворах.
— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка,
как убивается!