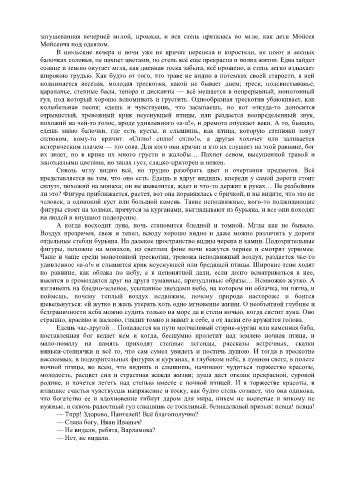Page 58 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 58
затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея
Мойсеича под одеялом.
В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных
балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет
солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает
широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней
поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье,
царапанье, степные басы, тенора и дисканты — всё мешается в непрерывный, монотонный
гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как
колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится
отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук,
похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота опускает веки. А то, бывало,
едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут
сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается
истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог
их знает, но в крике их много грусти и жалобы… Пахнет сеном, высушенной травой и
запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен.
Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё
представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит
силуэт, похожий на монаха; он не шевелится, ждет и что-то держит в руках… Не разбойник
ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не
человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие
фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят
на людей и внушают подозрение.
А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало.
Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги
отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные
фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее.
Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то
удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят
по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее,
высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы… Немножко жутко. А
взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и
поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится
шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и
безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно
страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.
Едешь час-другой… Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба,
поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и
мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки
няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне
насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете
ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты,
молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой
родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в
излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока,
что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не
нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!
— Тпрр! Здорово, Пантелей! Всё благополучно?
— Слава богу, Иван Иваныч!
— Не видали, ребята, Варламова?
— Нет, не видали.