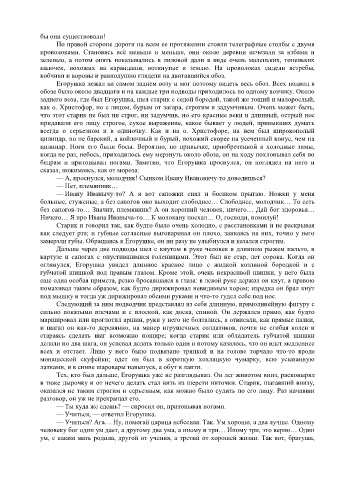Page 60 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 60
бы они существовали!
По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя
проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и
зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких
палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы,
кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.
Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в
обозе было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около
заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый,
как о. Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть,
что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос
придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать
всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый
цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на
цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы,
когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по
бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и
сказал, пожимаясь, как от мороза:
— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?
— Нет, племянник…
— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня
больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее… Слободнее, молодчик… То есть
без сапогов-то… Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай бог здоровья…
Ничего… Я про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О, господи, помилуй!
Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая
как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него
замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.
Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в
картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он
оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с
губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у него была
еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою
помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут
под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.
Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с
сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто
маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки,
и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и
стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки
делали по два шага, он успевал делать только один и потому казалось, что он идет медленнее
всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде
монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную
латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.
Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял
в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу,
оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши
разговор, он уж не прекращал его.
— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.
— Учиться, — ответил Егорушка.
— Учиться? Ага… Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному
человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три… Иному три, это верно… Один
ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша,