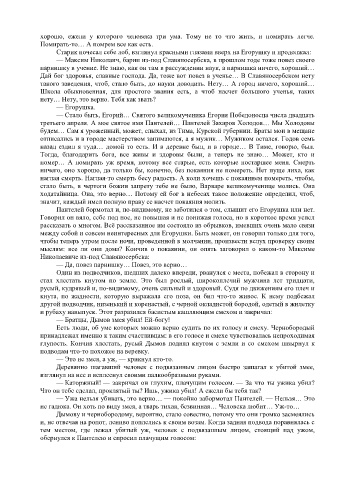Page 61 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 61
хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче.
Помирать-то… А помрем все как есть.
Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:
— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего
парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший…
Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье… В Славяносербском нету
такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету… А город ничего, хороший…
Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких
нету… Нету, это верно. Тебя как звать?
— Егорушка.
— Стало быть, Егорий… Святого великомученика Егория Победоносца числа двадцать
третьего апреля. А мое святое имя Пантелей… Пантелей Захаров Холодов… Мы Холодовы
будем… Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане
отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик… Мужиком остался. Годов семь
назад ездил я туда… домой то есть. И в деревне был, и в городе… В Тиме, говорю, был.
Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю… Может, кто и
помер… А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть
ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как
наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы,
стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она
ходатайница. Она, это верно… Потому ей бог в небесах такое положение определил, чтоб,
значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.
Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет.
Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел
рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи
между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того,
чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим
мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме
Николаевиче из-под Славяносербска:
— Да, повез парнишку… Повез, это верно…
Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и
стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати,
русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и
кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал
другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку
и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал:
— Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!
Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый
принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая
глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к
подводам что-то похожее на веревку.
— Это не змея, а уж, — крикнул кто-то.
Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее,
взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.
— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом. — За что ты ужика убил?
Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?
— Ужа нельзя убивать, это верно… — покойно забормотал Пантелей. — Нельзя… Это
не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная… Человека любит… Уж-то…
Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись
и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с
тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом,
обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом: