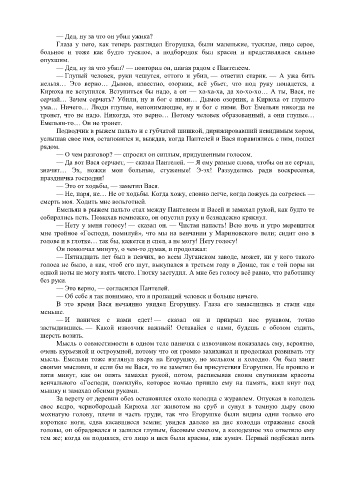Page 62 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 62
— Дед, ну за что он убил ужика?
Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое,
больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно
опухшим.
— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая рядом с Пантелеем.
— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, — ответил старик. — А ужа бить
нельзя… Это верно… Дымов, известно, озорник, всё убьет, что под руку попадется, а
Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха, да хо-хо-хо… А ты, Вася, не
серчай… Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними… Дымов озорник, а Кирюха от глупого
ума… Ничего… Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не
тронет, что не надо. Никогда, это верно… Потому человек образованный, а они глупые…
Емельян-то… Он не тронет.
Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором,
услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел
рядом.
— О чем разговор? — спросил он сиплым, придушенным голосом.
— Да вот Вася серчает, — сказал Пантелей. — Я ему разные слова, чтобы он не серчал,
значит… Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья,
праздничка господня!
— Это от ходьбы, — заметил Вася.
— Не, паря, не… Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь —
смерть моя. Ходить мне вольготней.
Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те
собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
— Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится
мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в
голове и в глотке… так бы, кажется и спел, а не могу! Нету голосу!
Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:
— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого
голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни
одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу всё равно, что работнику
без руки.
— Это верно, — согласился Пантелей.
— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.
В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще
меньше.
— И паничек с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно
застыдившись. — Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить,
шерсть возить.
Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно,
очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту
мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят
своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и
пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты
венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под
мышку и замахал обеими руками.
За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодезь
свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою
мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его
короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей
головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему
тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить