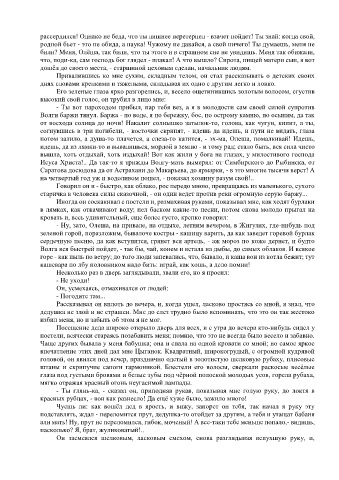Page 12 - Детство
P. 12
рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел - взачет пойдет! Ты знай: когда свой,
родной бьет - это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не
били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали,
что, поди-ка, сам господь бог глядел - плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот
дошёл до своего места, - старшиной цеховым сделан, начальник людям.
Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих
днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.
Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив
высокий свой голос, он трубил в лицо мне:
- Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив
Волги баржи тянул. Баржа - по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так
от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты,
согнувшись в три погибели, - косточки скрипят, - идешь да идешь, и пути не видать, глаза
потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, - эх-ма, Олеша, помалкивай! Идешь,
идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю - и тому рад; стало быть, вся сила чисто
вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа
Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от
Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, - в это многие тысячи верст! А
на четвертый год уж и водоливом пошел, - показал хозяину разум свой!..
Говорил он и - быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого
старичка в человека силы сказочной, - он один ведет против реки огромную серую баржу...
Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки
в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на
кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:
- Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под
зеленой горой, поразложим, бывалоче костры - кашицу варить, да как заведет горевой бурлак
сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, - аж мороз по коже дернет, и будто
Волга вся быстрей пойдет, - так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое
горе - как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут
кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!
Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:
- Не уходи!
Он, усмехаясь, отмахивался от людей:
- Погодите там...
Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что
дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко
избил меня, но и забыть об этом я не мог.
Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у
постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно.
Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое
впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой
головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые
штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые
глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха,
мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.
- Ты глянь-ка, - сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в
красных рубцах, - вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!
Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту
подставлять, ждал - переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня
али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало,- видишь,
насколько? Я, брат, жуликоватый!..
Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и,