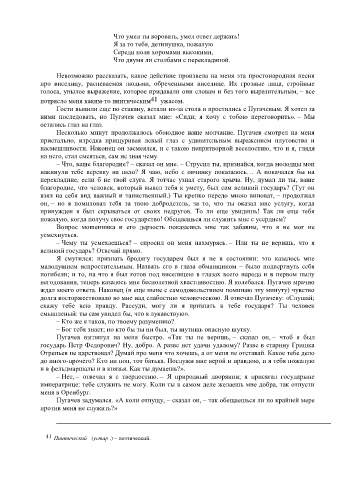Page 32 - Капитанская дочка
P. 32
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.
Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня
про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные
голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все
41
потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.
Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за
ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». – Мы
остались глаз на глаз.
Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня
пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и
насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя
на него, стал смеяться, сам не зная чему.
– Что, ваше благородие? – сказал он мне. – Струсил ты, признайся, когда молодцы мои
накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на
перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше
благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он
взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, – продолжал
он, – но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда
принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя
пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?
Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не
усмехнуться.
– Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – Или ты не веришь, что я
великий государь? Отвечай прямо.
Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне
малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком – было подвергнуть себя
погибели; и то, на что я был готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу
негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно
ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство
долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай;
скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек
смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».
– Кто же я таков, по твоему разумению?
– Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.
Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, – сказал он, – чтоб я был
государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка
Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело
до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую
и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?».
– Нет, – отвечал я с твердостию. – Я природный дворянин; я присягал государыне
императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти
меня в Оренбург.
Пугачев задумался. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере
против меня не служить?»
41 Пиитический (устар .) – поэтический.