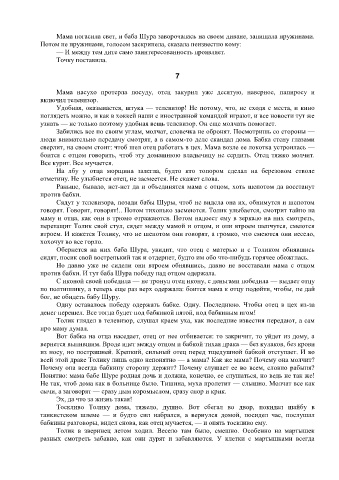Page 12 - Лабиринт
P. 12
Мама погасила свет, и баба Шура заворочалась на своем диване, запищала пружинами.
Потом не пружинами, голосом заскрипела, сказала неизвестно кому:
— И между тем дите само заинтересованность проявляет.
Точку поставила.
7
Мама насухо протерла посуду, отец закурил уже десятую, наверное, папиросу и
включил телевизор.
Удобная, оказывается, штука — телевизор! Не потому, что, не сходя с места, и кино
поглядеть можно, и как в хоккей наши с иностранной командой играют, и все новости тут же
узнать — не только поэтому удобная вещь телевизор. Он еще молчать помогает.
Забились все по своим углам, молчат, словечка не обронят. Посмотришь со стороны —
люди внимательно передачу смотрят, а в самом-то деле скандал дома. Бабка стену глазами
сверлит, на своем стоит: чтоб шел отец работать в цех. Мама возле ее локотка устроилась —
боится с отцом говорить, чтоб эту домашнюю владычицу не сердить. Отец тяжко молчит.
Все курит. Все мучается.
На лбу у отца морщина залегла, будто кто топором сделал на березовом стволе
отметину. Не улыбнется отец, не засмеется. Не скажет слова.
Раньше, бывало, нет-нет да и объединятся мама с отцом, хоть шепотом да восстанут
против бабки.
Сядут у телевизора, позади бабы Шуры, чтоб не видела она их, обнимутся и шепотом
говорят. Говорят, говорят!.. Потом тихонько засмеются. Толик улыбается, смотрит тайно на
маму и отца, как они в трюмо отражаются. Потом надоест ему в зеркало на них смотреть,
перетащит Толик свой стул, сядет между мамой и отцом, и они втроем шепчутся, смеются
втроем. И кажется Толику, что не шепотом они говорят, а громко, что смеются они весело,
хохочут во все горло.
Обернется на них баба Шура, увидит, что отец с матерью и с Толиком обнявшись
сидят, носик свой востренький так и отдернет, будто им обо что-нибудь горячее обожглась.
Но давно уже не сидели они втроем обнявшись, давно не восставали мама с отцом
против бабки. И тут баба Шура победу над отцом одержала.
С иконой своей победила — не тронул отец икону, с деньгами победила — выдает отцу
по полтиннику, а теперь еще раз верх одержала: боится мама к отцу подойти, чтобы, не дай
бог, не обидеть бабу Шуру.
Одну оставалось победу одержать бабке. Одну. Последнюю. Чтобы отец в цех из-за
денег перешел. Все тогда будет под бабкиной пятой, под бабкиным игом!
Толик глядел в телевизор, слушал краем уха, как последние известия передают, а сам
про маму думал.
Вот бабка на отца наседает, отец от нее отбивается: то закричит, то уйдет из дому, а
вернется выпившим. Вроде идет между отцом и бабкой тихая драка — без кулаков, без крови
из носу, но пострашней. Крепкий, сильный отец перед тщедушной бабкой отступает. И во
всей этой драке Толику лишь одно непонятно — а мама? Как же мама? Почему она молчит?
Почему она всегда бабкину сторону держит? Почему слушает ее во всем, словно рабыня?
Понятно: мама бабе Шуре родная дочь и должна, конечно, ее слушаться, но ведь не так же!
Не так, чтоб дома как в больнице было. Тишина, муха пролетит — слышно. Молчат все как
сычи, а заговорят — сразу дым коромыслом, сразу спор и крик.
Эх, да что за жизнь такая!
Тоскливо Толику дома, тяжело, душно. Вот сбегал во двор, покидал шайбу в
танкистском шлеме — и будто сил набрался, а вернулся домой, посидел час, послушал
бабкины разговоры, видел снова, как отец мучается, — и опять тоскливо ему.
Толик в зверинец летом ходил. Весело там было, смешно. Особенно на мартышек
разных смотреть забавно, как они дурят и забавляются. У клетки с мартышками всегда