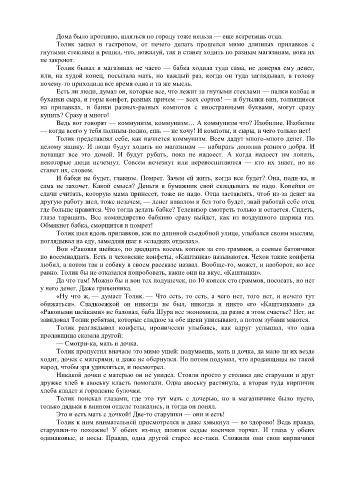Page 42 - Лабиринт
P. 42
Дома было противно, шляться по городу тоже нельзя — еще встретишь отца.
Толик зашел в гастроном, от нечего делать прошелся мимо длинных прилавков с
гнутыми стеклами и решил, что, пожалуй, так и станет ходить по разным магазинам, пока их
не закроют.
Толик бывал в магазинах не часто — бабка ходила туда сама, не доверяя ему денег,
или, на худой конец, посылала мать, но каждый раз, когда он туда заглядывал, в голову
почему-то приходила все время одна и та же мысль.
Есть ли люди, думал он, которые все, что лежит за гнутыми стеклами — палки колбас и
буханки сыра, и горы конфет, разных причем — всех сортов! — и бутылки вин, толпящиеся
на прилавках, и банки разных-разных компотов с иностранными буквами, могут сразу
купить? Сразу и много!
Ведь вот говорят — коммунизм, коммунизм… А коммунизм что? Изобилие. Изобилие
— когда всего у тебя полным-полно, ешь — не хочу! И компоты, и сыры, и чего только нет!
Толик представлял себе, как начнется коммунизм. Всем дадут много-много денег. По
целому ящику. И люди будут ходить по магазинам — набирать дополна разного добра. И
потащат все это домой. И будут рубать, пока не надоест. А когда надоест им лопать,
некоторые люди исчезнут. Совсем исчезнут или перевоспитаются — кто их знает, но не
станет их, словом.
И бабки не будет, главное. Помрет. Зачем ей жить, когда все будет? Она, поди-ка, и
сама не захочет. Какой смысл? Деньги в бумажник свой складывать не надо. Копейки от
сдачи считать, которую мама принесет, тоже не надо. Отца заставлять, чтоб из-за денег на
другую работу шел, тоже незачем, — денег навалом и без того будет, знай работай себе отец
где больше нравится. Что тогда делать бабке? Телевизор смотреть только и остается. Сидеть,
глаза таращить. Все командирство бабкино сразу выйдет, как из воздушного шарика газ.
Обмякнет бабка, сморщится и помрет!
Толик шел вдоль прилавков, как по длинной съедобной улице, улыбался своим мыслям,
поглядывал на еду, замедляя шаг в «сладких отделах».
Вон «Раковая шейка», по двадцать восемь копеек за сто граммов, а соевые батончики
по восемнадцать. Есть и чеховские конфеты, «Каштанка» называются. Чехов такие конфеты
любил, а потом так и собаку в своем рассказе назвал. Вообще-то, может, и наоборот, но все
равно. Толик бы не отказался попробовать, какие они на вкус, «Каштанки».
Да что там! Можно бы и вон тех подушечек, по 10 копеек сто граммов, пососать, но нет
у него денег. Даже гривенника.
«Ну что ж, — думает Толик. — Что есть, то есть, а чего нет, того нет, и нечего тут
обижаться». Сладкоежкой он никогда не был, никогда и никто его «Каштанками» да
«Раковыми шейками» не баловал, баба Шура все экономила, да разве в этом счастье? Нет, не
завидовал Толик ребятам, которые сладкое за обе щеки уписывают, а потом зубами маются.
Толик разглядывал конфеты, иронически улыбаясь, как вдруг услышал, что одна
продавщица сказала другой:
— Смотри-ка, мать и дочка.
Толик пропустил вначале это мимо ушей: подумаешь, мать и дочка, да мало ли их везде
ходит, дочек с матерями, и даже не обернулся. Но потом подумал, что продавщицы не такой
народ, чтобы зря удивляться, и посмотрел.
Никакой дочки с матерью он не увидел. Стояли просто у столика две старушки и друг
дружке хлеб в авоську класть помогали. Одна авоську растянула, а вторая туда кирпичик
хлеба кладет и городские булочки.
Толик поискал глазами, где это тут мать с дочерью, но в магазинчике было пусто,
только дядьки в винном отделе толкались, и тогда он понял.
Это и есть мать с дочкой! Две-то старушки — они и есть!
Толик к ним внимательней присмотрелся и даже хмыкнул — во здорово! Ведь правда,
старушки-то похожие! У обеих из-под шляпок седые косички торчат. И глаза у обеих
одинаковые, и носы. Правда, одна другой старее все-таки. Сложили они свои кирпичики