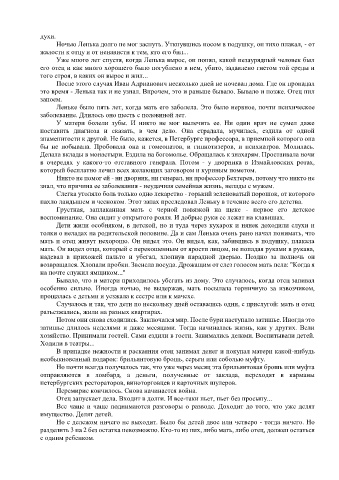Page 14 - Ленька Пантелеев
P. 14
духи.
Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал, - от
жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил...
Уже много лет спустя, когда Ленька вырос, он понял, какой незаурядный человек был
его отец и как много хорошего было погублено в нем, убито, задавлено гнетом той среды и
того строя, в каких он вырос и жил...
После этого случая Иван Адрианович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал
это время - Ленька так и не узнал. Впрочем, это и раньше бывало. Бывало и позже. Отец пил
запоем.
Леньке было пять лет, когда мать его заболела. Это было нервное, почти психическое
заболевание. Длилось оно шесть с половиной лет.
У матери болели зубы. И никто не мог вылечить ее. Ни один врач не сумел даже
поставить диагноза и сказать, в чем дело. Она страдала, мучилась, ездила от одной
знаменитости к другой. Не было, кажется, в Петербурге профессора, в приемной которого она
бы не побывала. Пробовала она и гомеопатов, и гипнотизеров, и психиатров. Молилась.
Делала вклады в монастыри. Ездила на богомолье. Обращалась к знахарям. Простаивала ночи
в очередях у какого-то отставного генерала. Потом - у дворника в Измайловских ротах,
который бесплатно лечил всех желающих заговором и куриным пометом.
Никто не помог ей - ни дворник, ни генерал, ни профессор Бехтерев, потому что никто не
знал, что причина ее заболевания - неудачная семейная жизнь, нелады с мужем.
Слегка утоляло боль только одно лекарство - горький зеленоватый порошок, от которого
пахло ландышем и чесноком. Этот запах преследовал Леньку в течение всего его детства.
Грустная, заплаканная мать с черной повязкой на щеке - первое его детское
воспоминание. Она сидит у открытого рояля. И добрые руки ее лежат на клавишах.
Дети жили особняком, в детской, но и туда через кухарок и нянек доходили слухи и
толки о неладах на родительской половине. Да и сам Ленька очень рано начал понимать, что
мать и отец живут нехорошо. Он видел это. Он видел, как, забившись в подушку, плакала
мать. Он видел отца, который с перекошенным от ярости лицом, не попадая руками в рукава,
надевал в прихожей пальто и убегал, хлопнув парадной дверью. Поздно за полночь он
возвращался. Хлопали пробки. Звенела посуда. Дрожащим от слез голосом мать пела: "Когда я
на почте служил ямщиком..."
Бывало, что и матери приходилось убегать из дому. Это случалось, когда отец запивал
особенно сильно. Иногда ночью, не выдержав, мать посылала горничную за извозчиком,
прощалась с детьми и уезжала к сестре или к мачехе.
Случалось и так, что дети по нескольку дней оставались одни, с прислугой: мать и отец
разъезжались, жили на разных квартирах.
Потом они снова сходились. Заключался мир. После бури наступало затишье. Иногда это
затишье длилось неделями и даже месяцами. Тогда начиналась жизнь, как у других. Вели
хозяйство. Принимали гостей. Сами ездили в гости. Занимались делами. Воспитывали детей.
Ходили в театры...
В припадке нежности и раскаяния отец занимал денег и покупал матери какой-нибудь
необыкновенный подарок: брильянтовую брошь, серьги или соболью муфту.
Но почти всегда получалось так, что уже через месяц эта брильянтовая брошь или муфта
отправляются в ломбард, а деньги, полученные от заклада, переходят в карманы
петербургских рестораторов, виноторговцев и карточных шулеров.
Перемирие кончилось. Снова начинается война.
Отец запускает дела. Входит в долги. И все-таки пьет, пьет без просыпу...
Все чаще и чаще поднимаются разговоры о разводе. Доходит до того, что уже делят
имущество. Делят детей.
Но с дележом ничего не выходит. Было бы детей двое или четверо - тогда ничего. Но
разделить 3 на 2 без остатка невозможно. Кто-то из них, либо мать, либо отец, должен остаться
с одним ребенком.