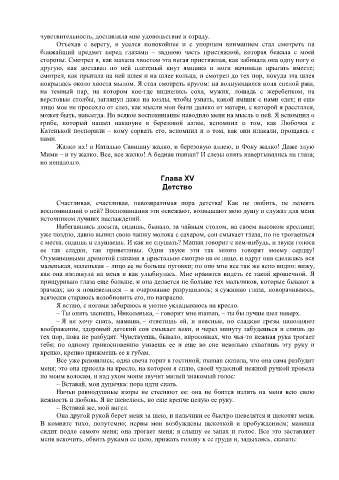Page 24 - Детство. Отрочество. После бала
P. 24
чувствительность, доставляла мне удовольствие и отраду.
Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на
ближайший предмет перед глазами – заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей
стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу о
другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика и ноги начинали прыгать вместе;
смотрел, как прыгала на ней шлея и на шлее кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлея
покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом: на волнующиеся поля спелой ржи,
на темный пар, на котором кое-где виднелись соха, мужик, лошадь с жеребенком, на
верстовые столбы, заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет; и еще
лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался,
может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о
грибе, который нашел накануне в березовой аллее, вспомнил о том, как Любочка с
Катенькой поспорили – кому сорвать его, вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с
нами.
Жалко их! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, и Фоку жалко! Даже злую
Мими – и ту жалко. Все, все жалко! А бедная maman? И слезы опять навертывались на глаза;
но ненадолго.
Глава XV
Детство
Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять
воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня
источником лучших наслаждений.
Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице;
уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься
с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса
ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу!
Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся
маленькая, маленькая – лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу,
как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я
прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в
зрачках; но я пошевелился – и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь,
всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.
Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.
– Ты опять заснешь, Николенька, – говорит мне maman, – ты бы лучше шел наверх.
– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют
воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до
тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает
тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и
крепко, крепко прижмешь ее к губам.
Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, что она сама разбудит
меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела
по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:
– Вставай, моя душечка: пора идти спать.
Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою
нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.
– Вставай же, мой ангел.
Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня.
В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша
сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет
меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: