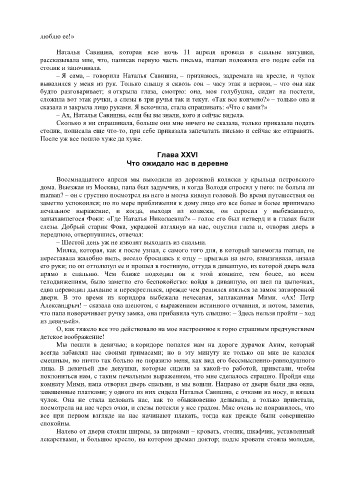Page 47 - Детство. Отрочество. После бала
P. 47
люблю ее!»
Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки,
рассказывала мне, что, написав первую часть письма, maman положила его подле себя на
столик и започивала.
– Я сама, – говорила Наталья Савишна, – признаюсь, задремала на кресле, и чулок
вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон – часу этак в первом, – что она как
будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели,
сложила вот этак ручки, а слезы в три ручья так и текут. «Так все кончено?» – только она и
сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»
– Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела.
Сколько я ни спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать
столик, пописала еще что-то, при себе приказала запечатать письмо и сейчас же отправить.
После уж все пошло хуже да хуже.
Глава XXVI
Что ожидало нас в деревне
Восемнадцатого апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца петровского
дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли
maman? – он с грустию посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он
заметно успокоился; но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало
печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего,
запыхавшегося Фоки: «Где Наталья Николаевна?» – голос его был нетверд и в глазах были
слезы. Добрый старик Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в
переднюю, отвернувшись, отвечал:
– Шестой день уж не изволят выходить из спальни.
Милка, которая, как я после узнал, с самого того дня, в который занемогла maman, не
переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу – прыгала на него, взвизгивала, лизала
его руки; но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела
прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более, по всем
телодвижениям, было заметно его беспокойство: войдя в диванную, он шел на цыпочках,
едва переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться за замок затворенной
двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мими. «Ах! Петр
Александрыч! – сказала она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом, заметив,
что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: – Здесь нельзя пройти – ход
из девичьей».
О, как тяжело все это действовало на мое настроенное к горю страшным предчувствием
детское воображение!
Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Аким, который
всегда забавлял нас своими гримасами; но в эту минуту не только он мне не казался
смешным, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного
лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то работой, привстали, чтобы
поклониться нам, с таким печальным выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще
комнату Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна,
завешенные платками; у одного из них сидела Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала
чулок. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только привстала,
посмотрела на нас через очки, и слезы потекли у нее градом. Мне очень не понравилось, что
все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно
спокойны.
Налево от двери стояли ширмы, за ширмами – кровать, столик, шкафчик, уставленный
лекарствами, и большое кресло, на котором дремал доктор; подле кровати стояла молодая,