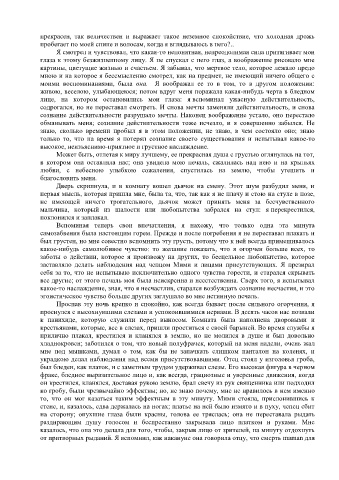Page 49 - Детство. Отрочество. После бала
P. 49
прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь
пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..
Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои
глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне
картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало предо
мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с
моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении:
живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном
лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность,
содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова
сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало
обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не
знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно; знаю
только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то
высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.
Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот,
в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях
любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и
благословить меня.
Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и
первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе,
не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного
мальчика, который из шалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился,
поклонился и заплакал.
Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута
самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не переставал плакать и
был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось
какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то
заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое
заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал
себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать
все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверх того, я испытывал
какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия, и это
эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль.
Проспав эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я
проснулся с высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали
к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и
крестьянами, которые, все в слезах, пришли проститься с своей барыней. Во время службы я
прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно
хладнокровен; заботился о том, что новый полуфрачек, который на меня надели, очень жал
мне под мышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и
украдкою делал наблюдения над всеми присутствовавшими. Отец стоял у изголовья гроба,
был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном
фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда
он крестился, кланялся, доставая рукою землю, брал свечу из рук священника или подходил
ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мне не нравилось в нем именно
то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к
стене, и, казалось, едва держалась на ногах; платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит
на сторону; опухшие глаза были красны, голова ее тряслась; она не переставала рыдать
раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне
казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыв лицо от зрителей, на минуту отдохнуть
от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть maman для