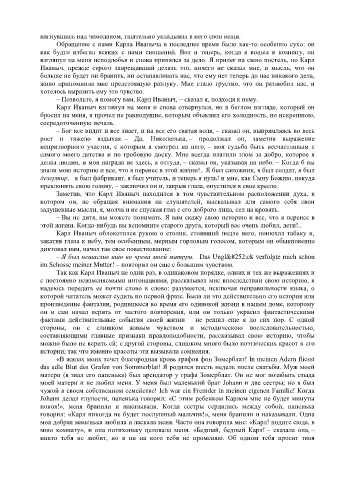Page 67 - Детство. Отрочество. После бала
P. 67
нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.
Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он
как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он
взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл
Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он
больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела,
живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и
хотелось выразить ему это чувство.
– Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч, – сказал я, подходя к нему.
Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он
бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю,
сосредоточенную печаль.
– Бог все видит и все знает, и на все его святая воля, – сказал он, выпрямляясь во весь
рост и тяжело вздыхая. – Да, Николенька, – продолжал он, заметив выражение
непритворного участия, с которым я смотрел на него, – моя судьба быть несчастливым с
самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я
делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, – сказал он, указывая на небо. – Когда б вы
знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был
дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как Сыну Божию, некуда
преклонить свою голову, – заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.
Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в
котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои
задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.
– Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в
этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!..
Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и,
закатив глаза к небу, тем особенным, мерным горловым голосом, которым он обыкновенно
диктовал нам, начал так свое повествование:
– Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри. Das Unglück verfolgte mich schon
im Schosse meiner Mutter! – повторил он еще с большим чувством.
Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и
с постоянно неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я
надеюсь передать ее почти слово в слово: разумеется, исключая неправильности языка, о
которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или
произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому
он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими
фактами действительные события своей жизни – не решил еще я до сих пор. С одной
стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью,
составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы
можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его
истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.
«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst
das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей
матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда
моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был
чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meinen eigenen Familie! Когда
Johann делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты
покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька
говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна
моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда, в
мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! – сказала она, –
никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя