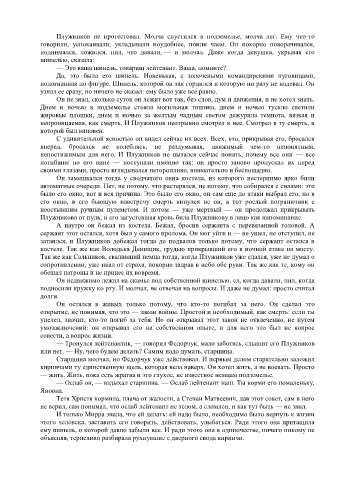Page 70 - В списках не значился
P. 70
Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то
говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался,
поднимался, ложился, пил, что давали, — и молчал. Даже когда девушка, укрывая его
шинелью, сказала:
— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?
Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами,
подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он
узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.
Он не знал, сколько суток он лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать.
Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили
жировые плошки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и
непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в
которой был виновен.
С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался
вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным,
непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все
погибшие по его вине — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед
своими глазами, просто вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.
Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били
автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это
было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в
его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с
неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать
Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо как напоминание.
А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А
сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и — не ушел, не отступил, не
затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в
костеле. Так же как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту.
Так же как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о
сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же как те, кому он
обещал патроны и не принес их вовремя.
Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда
подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал
долги.
Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это
открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты
уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем
умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос
совести, а вопрос жизни.
— Тронулся лейтенантик, — говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников
или нет. — Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.
Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил
кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто
— жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, не известное немцам подземелье.
— Ослаб он, — вздыхал старшина. — Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку,
Яновна.
Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него
не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.
И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни
этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила
ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не
объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.