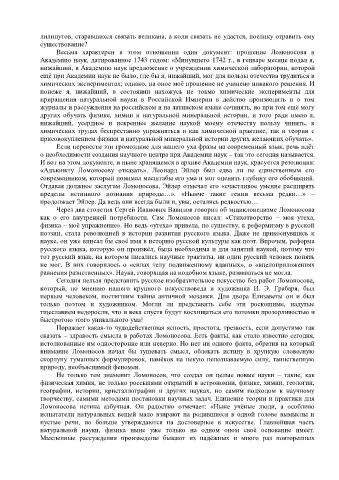Page 76 - Этюды о ученых
P. 76
лилипутов, старавшихся связать великана, а коли связать не удастся, поелику отравить ему
существование?
Весьма характерен в этом отношении один документ: прошение Ломоносова в
Академию наук, датированное 1743 годом: «Минувшего 1742 г., в генваре месяце подал я,
нижайший, в Академию наук предложение о учреждении химической лаборатории, которой
ещё при Академии наук не было, где бы я, нижайший, мог для пользы отечества трудиться в
химических экспериментах; однако, на оное моё прошение не учинено никакого решения. И
понеже я, нижайший, в состоянии нахожусь не токмо химические эксперименты для
приращения натуральной науки в Российской Империи в действо производить и о том
журналы и рассуждения на российском и на латинском языке сочинять, но при том ещё могу
других обучать физике, химии и натуральной минеральной истории, и того ради имею я,
нижайший, усердное и искреннее желание наукой моему отечеству пользу чинить, в
химических трудах беспрестанно упражняться и как химической практике, так и теории с
присовокуплением физики и натуральной минеральной истории других желающих обучать».
Если перевести эти громоздкие для нашего уха фразы на современный язык, речь идёт
о необходимости создания научного центра при Академии наук – так это сегодня называется.
И вот на этом документе, и ныне хранящемся в архиве Академии наук, красуется резолюция:
«Адъюнкту Ломоносову отказать». Леонард Эйлер был едва ли не единственным его
современником, который понимал масштабы его ума и мог оценить глубину его обобщений.
Отдавая должное заслугам Ломоносова, Эйлер отмечал его «счастливое умение расширять
пределы истинного познания природы…». «Нынче такие гении весьма редки…» –
продолжает Эйлер. Да ведь они всегда были и, увы, остались редкостью…
Через два столетия Сергей Иванович Вавилов говорил об энциклопедизме Ломоносова
как о его внутренней потребности. Сам Ломоносов писал: «Стихотворство – моя утеха,
физика – моё упражнение». Но ведь «утеха» привела, по существу, к реформизму в русской
поэзии, стала революцией в истории развития русского языка. Даже не прикоснувшись к
науке, он уже вписал бы своё имя в историю русской культуры как поэт. Впрочем, реформа
русского языка, которую он произвёл, была необходима и для занятий наукой, потому что
тот русский язык, на котором писались научные трактаты, ни один русский человек понять
не мог. В них говорилось о «силах телу подвиженному вданных», о «вцелоприложениях
равнения разнственных». Наука, говорящая на подобном языке, развиваться не могла.
Сегодня нельзя представить русское изобразительное искусство без работ Ломоносова,
который, по мнению нашего крупного искусствоведа и художника И. Э. Грабаря, был
первым человеком, постигшим тайны античной мозаики. Для двора Елизаветы он и был
только поэтом и художником. Могли ли представить себе эти роскошные, надутые
тщеславием недоросли, что и века спустя будут восхищаться его потомки прозорливостью и
быстротою этого уникального ума!
Поражает какая-то чудодейственная ясность, простота, трезвость, если допустимо так
сказать – здравость смысла в работах Ломоносова. Есть факты, как стало известно сегодня,
истолкованные им односторонне или неверно. Но нет ни одного факта, обратив на который
внимание Ломоносов начал бы тушевать смысл, облекать истину в хрупкую словесную
скорлупу туманных формулировок, намёков на некую непознаваемую силу, таинственную
природу, необъяснимый феномен.
Не только тем знаменит Ломоносов, что создал он целые новые науки – такие, как
физическая химия, не только россыпями открытий в астрономии, физике, химии, геологии,
географии, истории, кристаллографии и других науках, но самим подходом к научному
творчеству, самими методами постановки научных задач. Единение теории и практики для
Ломоносова истина азбучная. Он радостно отмечает: «Ныне учёные люди, а особливо
испытатели натуральных вещей мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и
пустые речи, но больше утверждаются на достоверное в искусстве. Главнейшая часть
натуральной науки, физика ныне уже только на одном оном своё основание имеет.
Мысленные рассуждения произведены бывают из надёжных и много раз повторенных