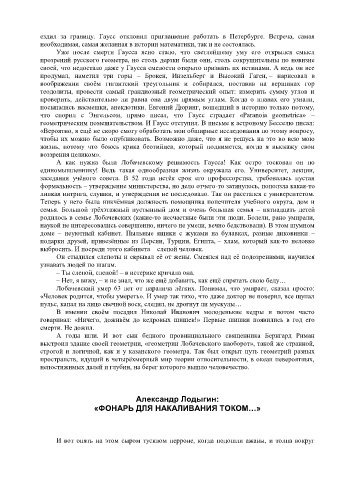Page 81 - Этюды о ученых
P. 81
ездил за границу. Гаусс отклонил приглашение работать в Петербурге. Встреча, самая
необходимая, самая желанная в истории математики, так и не состоялась.
Уже после смерти Гаусса ясно стало, что светлейшему уму его открылся смысл
прозрений русского геометра, но столь дерзки были они, столь сокрушительны по новизне
своей, что недостало даже у Гаусса смелости открыто признать их истинами. А ведь он все
продумал, наметил три горы – Брокен, Инзельберг и Высокий Гаген, – нарисовал в
воображении своём гигантский треугольник и собирался, поставив на вершинах гор
теодолиты, провести самый грандиозный геометрический опыт: измерить сумму углов и
проверить, действительно ли равна она двум прямым углам. Когда о планах его узнали,
посыпались насмешки, анекдотики. Евгений Дюринг, вошедший в историю только потому,
что спорил с Энгельсом, прямо писал, что Гаусс страдает «Paranoia geometrica» –
геометрическим помешательством. И Гаусс отступил. В письме к астроному Бесселю писал:
«Вероятно, я ещё не скоро смогу обработать мои обширные исследования по этому вопросу,
чтобы их можно было опубликовать. Возможно даже, что я не решусь на это во всю мою
жизнь, потому что боюсь крика беотийцев, который поднимется, когда я выскажу свои
воззрения целиком».
А как нужна была Лобачевскому решимость Гаусса! Как остро тосковал он по
единомышленнику! Ведь такая однообразная жизнь окружала его. Университет, лекции,
заседания учёного совета. В 52 года истёк срок его профессорства, требовалась пустая
формальность – утверждение министерства, но дело отчего-то затянулось, поползла какая-то
липкая интрига, слушки, и утверждения не последовало. Так он расстался с университетом.
Теперь у него была никчёмная должность помощника попечителя учебного округа, дом и
семья. Большой трёхэтажный пустынный дом и очень большая семья – пятнадцать детей
родилось в семье Лобачевских (какие-то несчастные были эти люди. Болели, рано умирали,
наукой не интересовались совершенно, ничего не умели, вечно бедствовали). В этом шумном
доме – неуютный кабинет. Пыльные ящики с жуками на булавках, разные диковинки –
подарки друзей, привезённые из Персии, Турции, Египта, – хлам, который как-то неловко
выбросить. И посреди этого кабинета – слепой человек.
Он стыдился слепоты и скрывал её от жены. Смеялся над её подозрениями, научился
узнавать людей по шагам.
– Ты слепой, слепой! – в истерике кричала она.
– Нет, я вижу, – и не знал, что же ещё добавить, как ещё спрятать свою беду…
Лобачевский умер 63 лет от паралича лёгких. Понимал, что умирает, сказал просто:
«Человек родится, чтобы умереть». И умер так тихо, что даже доктор не поверил, все щупал
пульс, капал на лицо свечной воск, следил, не дрогнут ли мускулы…
В имении своём посадил Николай Иванович молоденькие кедры и потом часто
говаривал: «Ничего, доживём до кедровых шишек!» Первые шишки появились в год его
смерти. Не дожил.
А годы шли. И вот сын бедного провинциального священника Бернгард Риман
выстроил здание своей геометрии, «геометрии Лобачевского наоборот», такой же странной,
строгой и логичной, как и у казанского геометра. Так был открыт путь геометрий разных
пространств, идущий в четырёхмерный мир теории относительности, в океан невероятных,
непостижимых далей и глубин, на берег которого вышло человечество.
Александр Лодыгин:
«ФОНАРЬ ДЛЯ НАКАЛИВАНИЯ ТОКОМ…»
И вот опять на этом сыром тусклом перроне, когда подошли ажаны, и толпа вокруг