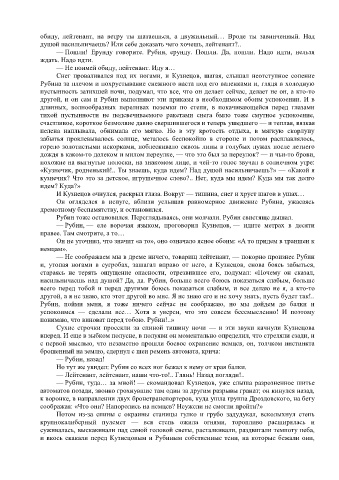Page 169 - Горячий снег
P. 169
обиду, лейтенант, на ветру ты шатаешься, а двужильный… Вроде ты завинченный. Над
душой насильничаешь? Или себе доказать чего хочешь, лейтенант?..
— Пошли! Ерунду говорите. Рубин, ерунду. Пошли. Да, пошли. Надо идти, нельзя
ждать. Надо идти.
— Не поимей обиду, лейтенант. Иду я…
Снег проваливался под их ногами, и Кузнецов, шагая, слышал неотступное сопение
Рубина за плечом и похрустывание снежного наста под его валенками и, глядя в холодную
пустынность затихшей ночи, подумал, что все, что он делает сейчас, делает не он, а кто-то
другой, и он сам и Рубин выполняют эти приказы в необходимом обоим успокоении. И в
длинных, волнообразных переливах поземки по степи, в покачивающейся перед глазами
тихой пустынности не подсвечиваемого ракетами снега было тоже смутное успокоение,
счастливое, короткое безмолвие давно свершившегося и теперь ушедшего — и теплая, вязкая
пелена наплывала, обнимала его мягко. Но в эту кротость отдыха, в мягкую скорлупу
забытья проклевывалось солнце, металось беспокойно в стороне и потом расплавлялось,
горело золотистыми искорками, поблескивало сквозь липы в голубых лужах после летнего
дождя в каком-то далеком и милом переулке, — что это был за переулок? — и чьи-то брови,
похожие на выгнутые полоски, на знакомом лице, и чей-то голос звучал в солнечном утре:
«Кузнечик, родненький!.. Ты знаешь, куда идем? Над душой насильничаешь?» — «Какой я
кузнечик? Что это за детское, игрушечное слово?.. Нет, куда мы идем? Куда мы так долго
идем? Куда?»
И Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг — тишина, снег и хруст шагов в ушах…
Он огляделся в испуге, вблизи услышав равномерное движение Рубина, ужасаясь
дремотному беспамятству, и остановился.
Рубин тоже остановился. Переглядываясь, они молчали. Рубин свистяще дышал.
— Рубин, — еле ворочая языком, проговорил Кузнецов, — идите метрах в десяти
правее. Там смотрите, а то…
Он не уточнил, что значит «а то», оно означало ясное обоим: «А то придем в траншеи к
немцам».
— Не соображаем мы в дреме ничего, товарищ лейтенант, — покорно произнес Рубин
и, утопая ногами в сугробах, зашагал вправо от него, а Кузнецов, снова боясь забыться,
стараясь не терять ощущение опасности, отрезвившее его, подумал: «Почему он сказал,
насильничаешь над душой? Да, да. Рубин, больше всего боюсь показаться слабым, больше
всего перед тобой и перед другими боюсь показаться слабым, и все делаю не я, а кто-то
другой, а я не знаю, кто этот другой во мне. Я не знаю его и не хочу знать, пусть будет так!..
Рубин, пойми меня, я тоже ничего сейчас не соображаю, но мы дойдем до балки и
успокоимся — сделали все… Хотя я уверен, что это совсем бессмысленно! И поэтому
понимаю, что виноват перед тобою. Рубин!..»
Сухие строчки просекли за спиной тишину ночи — и эти звуки качнули Кузнецова
вперед. И еще в зыбком полусне, в полуяви он моментально определил, что стреляли сзади, и
с первой мыслью, что незаметно прошли боевое охранение немцев, он, толчком инстинкта
брошенный на землю, сдернул с шеи ремень автомата, крича:
— Рубин, назад!
Но тут же увидел: Рубин со всех ног бежал к нему от края балки.
— Лейтенант, лейтенант, наши что-то!.. Глянь! Назад погляди!..
— Рубин, туда… за мной! — скомандовал Кузнецов, уже слыша разрозненное шитье
автоматов позади, звонко грохнувшие там один за другим разрывы гранат; он кинулся назад,
к воронке, в направлении двух бронетранспортеров, куда ушла группа Дроздовского, на бегу
соображая: «Что они? Напоролись на немцев? Неужели не смогли пройти?»
Потом из-за спины с окраины станицы гулко и грубо задудукал, всколыхнул степь
крупнокалиберный пулемет — вся степь ожила огнями, торопливо расширялась и
суживалась, выскакивали над самой головой светы, расталкивали, раздвигали темноту неба,
и вкось скакали перед Кузнецовым и Рубиным собственные тени, на которые бежали они,