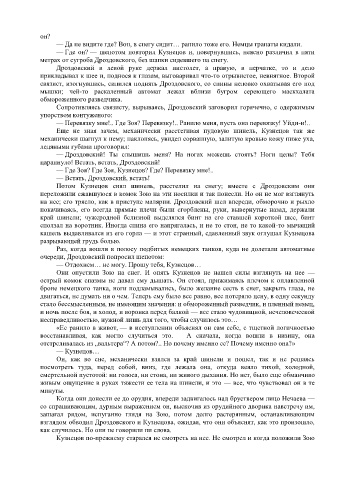Page 172 - Горячий снег
P. 172
он?
— Да не видите где? Вон, в снегу сидит… ранило тоже его. Немцы гранаты кидали.
— Где он? — шепотом повторил Кузнецов и, повернувшись, неясно различил в пяти
метрах от сугроба Дроздовского, без шапки сидевшего на снегу.
Дроздовский в левой руке держал пистолет, а правую, в перчатке, то и дело
прикладывал к шее и, поднося к глазам, выговаривал что-то отрывистое, невнятное. Второй
связист, изогнувшись, силился поднять Дроздовского, со спины неловко охватывая его под
мышки; чей-то раскаленный автомат лежал вблизи бугром сереющего маскхалата
обмороженного разведчика.
Сопротивляясь связисту, вырываясь, Дроздовский заговорил горячечно, с одержимым
упорством контуженого:
— Перевязку мне!.. Где Зоя? Перевязку!.. Ранило меня, пусть она перевязку! Уйди-и!..
Еще не зная зачем, механически расстегивая пудовую шинель, Кузнецов так же
механически шагнул к нему; наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха,
ледяными губами проговорил:
— Дроздовский! Ты слышишь меня? На ногах можешь стоять? Ноги целы? Тебя
царапнуло! Встать, встать, Дроздовский!
— Где Зоя? Где Зоя, Кузнецов? Где? Перевязку мне!..
— Встать, Дроздовский, встать!
Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу; вместе с Дроздовским они
переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Но он не мог взглянуть
на нее; его трясло, как в приступе малярии. Дроздовский шел впереди, обморочно и рыхло
покачиваясь, его всегда прямые плечи были сгорблены, руки, вывернутые назад, держали
край шинели; чужеродной белизной выделялся бинт на его ставшей короткой шее, бинт
сползал на воротник. Иногда спина его напрягалась, и не то стон, не то какой-то мычащий
кашель выдавливался из его горла — и этот странный, сдавленный звук оглушал Кузнецова
разрывающей грудь болью.
Раз, когда вошли в полосу подбитых немецких танков, куда не долетали автоматные
очереди, Дроздовский попросил шепотом:
— Отдохнем… не могу. Прошу тебя, Кузнецов…
Они опустили Зою на снег. И опять Кузнецов не нашел силы взглянуть на нее —
острый комок спазмы не давал ему дышать. Он стоял, прижимаясь плечом к оплавленной
броне немецкого танка, ноги подламывались, было желание сесть в снег, закрыть глаза, не
двигаться, не думать ни о чем. Теперь ему было все равно, все потеряло цену, в одну секунду
стало бессмысленным, не имеющим значения: и обмороженный разведчик, и пленный немец,
и ночь после боя, и холод, и воронка перед балкой — все стало чудовищной, нечеловеческой
несправедливостью, нужной лишь для того, чтобы случилось это…
«Ее ранило в живот, — в исступлении объяснял он сам себе, с тщетной логичностью
восстанавливая, как могло случиться это. — А сначала, когда вошли в низину, она
отстреливалась из „вальтера“? А потом?.. Но почему именно ее? Почему именно она?»
— Кузнецов…
Он, как во сне, механически взялся за край шинели и пошел, так и не решаясь
посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло тихой, холодной,
смертельной пустотой: ни голоса, ни стона, ни живого дыхания. Но нет, было еще обманчиво
живым ощущение в руках тяжести ее тела на шинели, и это — все, что чувствовал он в те
минуты.
Когда они донесли ее до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева —
со спрашивающим, дурным выражением он, выскочив из орудийного дворика навстречу им,
зашагал рядом, испуганно глядя на Зою, потом долго растерянным, останавливающим
взглядом обводил Дроздовского и Кузнецова, ожидая, что они объяснят, как это произошло,
как случилось. Но они не говорили ни слова.
Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на нее. Не смотрел и когда положили Зою