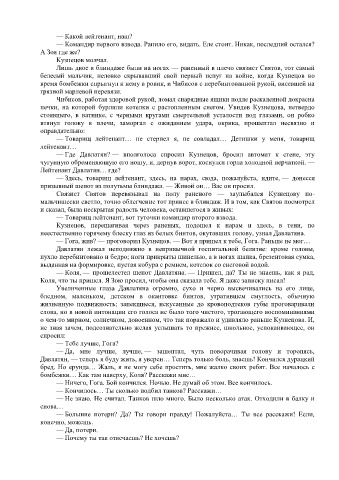Page 177 - Горячий снег
P. 177
— Какой лейтенант, наш?
— Командир первого взвода. Ранило его, видать. Еле стоит. Никак, последний остался?
А Зоя где же?
Кузнецов молчал.
Лишь двое в блиндаже были на ногах — раненный в плечо связист Святов, тот самый
белесый мальчик, неловко скрывавший свой первый испуг на войне, когда Кузнецов во
время бомбежки спрыгнул к нему в ровик, и Чибисов с перебинтованной рукой, висевшей на
грязной марлевой перевязи.
Чибисов, работая здоровой рукой, ломал снарядные ящики подле раскаленной докрасна
печки, на которой бурлили котелки с растопленным снегом. Увидев Кузнецова, нетвердо
стоявшего, в ватнике, с черными кругами смертельной усталости под глазами, он робко
втянул голову в плечи, заморгал с ожиданием удара, окрика, прошептал несвязно и
оправдательно:
— Товарищ лейтенант… не стерпел я, не совладал… Детишки у меня, товарищ
лейтенант…
— Где Давлатян? — вполголоса спросил Кузнецов, бросил автомат к стене, эту
чугунную обременяющую его ношу, и, дернув ворот, коснулся горла холодной перчаткой. —
Лейтенант Давлатян… где?
— Здесь, товарищ лейтенант, здесь, на нарах, сюда, пожалуйста, идите, — донесся
призывный шепот из полутьмы блиндажа. — Живой он… Вас он просил.
Связист Святов перевязывал на полу раненого — заулыбался Кузнецову по-
мальчишески светло, точно облегчение тот принес в блиндаж. И в том, как Святов посмотрел
и сказал, была нескрытая радость человека, оставшегося в живых:
— Товарищ лейтенант, вот туточки командир второго взвода.
Кузнецов, перешагивая через раненых, подошел к нарам и здесь, в тени, по
неестественно горячему блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал Давлатяна.
— Гога, жив? — проговорил Кузнецов. — Вот я пришел к тебе, Гога. Раньше не мог…
Давлатян лежал неподвижно в непривычной госпитальной белизне: кроме головы,
пухло перебинтовано и бедро; ноги прикрыты шинелью, а в ногах шапка, брезентовая сумка,
выданная на формировке, пустая кобура с ремнем, котелок со снеговой водой.
— Коля, — прошелестел шепот Давлатяна. — Пришел, да? Ты не знаешь, как я рад,
Коля, что ты пришел. Я Зою просил, чтобы она сказала тебе. Я даже записку писал!
Увеличенные глаза Давлатяна огромно, сухо и черно высвечивались на его лице,
бледном, маленьком, детском в окантовке бинтов, утратившем смуглость, обычную
жизненную подвижность; запекшиеся, искусанные до кровоподтеков губы проговаривали
слова, но в новой интонации его голоса не было того чистого, трогающего воспоминаниями
о чем-то мирном, солнечном, довоенном, что так поражало и удивляло раньше Кузнецова. И,
не зная зачем, подсознательно желая услышать то прежнее, школьное, успокаивающее, он
спросил:
— Тебе лучше, Гога?
— Да, мне лучше, лучше, — зашептал, чуть поворачивая голову и торопясь,
Давлатян, — теперь я буду жить, я уверен… Теперь только боль, знаешь! Кончился дурацкий
бред. Но ерунда… Жаль, я не могу себе простить, мне жалко своих ребят. Все началось с
бомбежки… Как там наверху, Коля? Расскажи мне…
— Ничего, Гога. Бой кончился. Ночью. Не думай об этом. Все кончилось.
— Кончилось… Ты сколько подбил танков? Расскажи…
— Не знаю. Не считал. Танков шло много. Было несколько атак. Отходили в балку и
снова…
— Большие потери? Да? Ты говори правду! Пожалуйста… Ты все расскажи! Если,
конечно, можешь.
— Да, потери.
— Почему ты так отвечаешь? Не хочешь?