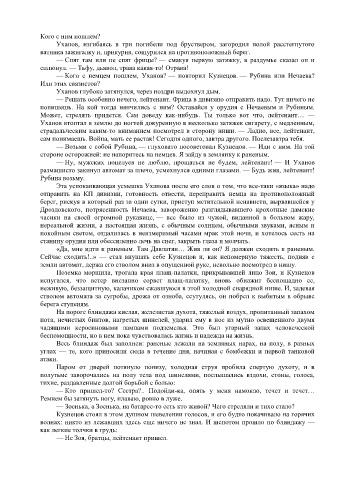Page 176 - Горячий снег
P. 176
Кого с ним пошлем?
Уханов, изгибаясь в три погибели под бруствером, загородил полой расстегнутого
ватника зажигалку и, прикурив, сощурился на противоположный берег.
— Спят там или не спят фрицы? — смакуя первую затяжку, в раздумье сказал он и
сплюнул. — Тьфу, дьявол, трава какая-то! Отрава!
— Кого с немцем пошлем, Уханов? — повторил Кузнецов. — Рубина или Нечаева?
Или этих связистов?
Уханов глубоко затянулся, через ноздри выдохнул дым.
— Решать особенно нечего, лейтенант. Фрица в дивизию отправить надо. Тут ничего не
попишешь. На кой тогда нянчились с ним? Оставайся у орудия с Нечаевым и Рубиным.
Может, стрелять придется. Сам доведу как-нибудь. Ты только вот что, лейтенант… —
Уханов втоптал в землю до ногтей докуренную в несколько затяжек сигарету, с медленным,
страдальческим каким-то вниманием посмотрел в сторону ниши. — Ладно, все, лейтенант,
сам понимаешь. Война, мать ее растак! Сегодня одного, завтра другого. Послезавтра тебя.
— Возьми с собой Рубина, — глуховато посоветовал Кузнецов. — Иди с ним. На той
стороне осторожней: не напоритесь на немцев. Я зайду в землянку к раненым.
— Ну, мужских поцелуев не люблю, прощаться не будем, лейтенант! — И Уханов
размашисто закинул автомат за плечо, усмехнулся одними глазами. — Будь жив, лейтенант!
Рубина возьму.
Эта успокаивающая усмешка Уханова после его слов о том, что все-таки «языка» надо
отправить на КП дивизии, готовность отвести, переправить немца на противоположный
берег, рискуя в который раз за одни сутки, приступ мстительной ненависти, вырвавшейся у
Дроздовского, потрясенность Нечаева, завороженно разглядывавшего крохотные дамские
часики на своей огромной рукавице, — все было из чужой, виданной в больном жару,
нереальной жизни, а настоящая жизнь, с обычным солнцем, обычными звуками, ясным и
покойным светом, отдалилась в неизмеримый часами мрак этой ночи, и хотелось сесть на
станину орудия или обессиленно лечь на снег, закрыть глаза и молчать.
«Да, мне идти к раненым. Там Давлатян… Жив ли он? Я должен сходить к раненым.
Сейчас сходить!..» — стал внушать себе Кузнецов и, как непомерную тяжесть, подняв с
земли автомат, держа его стволом вниз в опущенной руке, невольно посмотрел в нишу.
Поземка морщила, трогала края плащ-палатки, прикрывавшей лицо Зои, и Кузнецов
испугался, что ветер внезапно сорвет плащ-палатку, вновь обнажит беспощадно ее,
неживую, беззащитную, калачиком сжавшуюся в этой холодной снарядной нише. И, задевая
стволом автомата за сугробы, дрожа от озноба, ссутулясь, он побрел к выбитым в обрыве
берега ступеням.
На пороге блиндажа кислая, железистая духота, тяжелый воздух, пропитанный запахом
пота, нечистых бинтов, нагретых шинелей, ударил ему в нос из мутно освещенного двумя
чадящими керосиновыми лампами подземелья. Это был угарный запах человеческой
беспомощности, но в нем пока чувствовалась жизнь и надежда на жизнь.
Весь блиндаж был заполнен: раненые лежали на земляных нарах, на полу, в разных
углах — те, кого приносили сюда в течение дня, начиная с бомбежки и первой танковой
атаки.
Паром от дверей потянуло понизу, холодная струя пробила спертую духоту, и в
полутьме заворочались на полу тела под шинелями, послышались вздохи, стоны, голоса,
тихие, раздавленные долгой борьбой с болью:
— Кто пришел-то? Сестра?.. Подойди-ка, опять у меня намокло, течет и течет…
Ремнем бы затянуть ногу, плаваю, ровно в луже.
— Зоенька, а Зоенька, на батарее-то есть кто живой? Чего стреляли и тихо стало?
Кузнецов стоял в этом душном шевелении голосов, и его будто покачивало на горячих
волнах: никто из лежавших здесь еще ничего не знал. И шепотом прошло по блиндажу —
как легкие толчки в грудь:
— Не Зоя, братцы, лейтенант пришел.