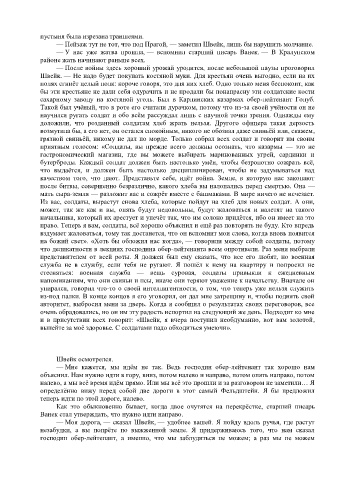Page 347 - Похождения бравого солдата Швейка
P. 347
пустыня была изрезана траншеями.
— Пейзаж тут не тот, что под Прагой, — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание.
— У нас уже жатва прошла, — вспомнил старший писарь Ванек. — В Кралупском
районе жать начинают раньше всех.
— После войны здесь хороший урожай уродится, после небольшой паузы проговорил
Швейк. — Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их
полях сгниёт целый полк: короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит, как
бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости
сахарному заводу на костяной уголь. Был в Карлинских казармах обер-лейтенант Голуб.
Такой был учёный, что в роте его считали дурачком, потому что из-за своей учёности он не
научился ругать солдат и обо всём рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему
доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость
возмутила бы, а его нет, он остался спокойным, никого не обозвал даже свиньёй или, скажем,
грязной свиньёй, никому не дал по морде. Только собрал всех солдат и говорит им своим
приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы — это не
гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и
бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё,
что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над
качеством того, что дают. Представьте себе, идёт война. Земле, в которую нас закопают
после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она —
мать сыра-земля — разложит вас и сожрёт вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает.
Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. А они,
может, так же как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого
начальника, который их арестует и упечёт так, что им солоно придётся, ибо он имеет на это
право. Теперь я вам, солдаты, всё хорошо объяснил и ещё раз повторять не буду. Кто впредь
вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится
на божий свет». «Хоть бы обложил нас когда», — говорили между собой солдаты, потому
что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивели. Раз меня выбрали
представителем от всей роты. Я должен был ему сказать, что все его любят, но военная
служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошёл к нему на квартиру и попросил не
стесняться: военная служба — вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным
напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он
упирался, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить
из-под палки. В конце концов я его уговорил, он дал мне затрещину и, чтобы поднять свой
авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все
очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. Подходит ко мне
и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой,
выпейте за моё здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи».
Швейк осмотрелся.
— Мне кажется, мы идём не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам
объяснил. Нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом
налево, а мы всё время идём прямо. Или мы всё это прошли и за разговором не заметили… Я
определённо вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн. Я бы предложил
теперь идти по этой дороге, налево.
Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрёстке, старший писарь
Ванек стал утверждать, что нужно идти направо.
— Моя дорога, — сказал Швейк, — удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут
незабудки, а вы попрёте по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал
господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем; а раз мы не можем