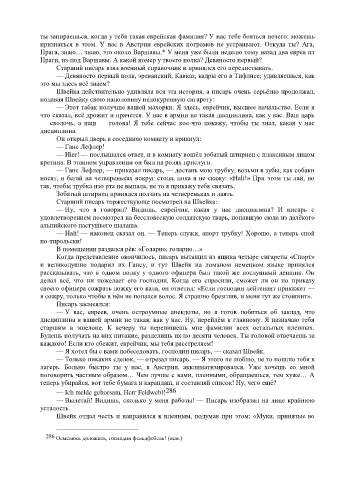Page 350 - Похождения бравого солдата Швейка
P. 350
ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего: можешь
признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага,
Прага, знаю… знаю, это около Варшавы.* У меня уже были неделю тому назад два еврея из
Праги, из-под Варшавы. А какой номер у твоего полка? Девяносто первый?
Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.
— Девяносто первый полк, эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе; удивляешься, как
это мы здесь всё знаем?
Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьёзно продолжал,
подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету:
— Этот табак получше вашей махорки. Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я
что сказал, всё дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь
— сволочь, а наш — голова! Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас
дисциплина.
Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:
— Ганс Лефлер!
— Hier! — послышался ответ, и в комнату вошёл зобатый штириец с плаксивым лицом
кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.
— Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки
носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу: «Halt!» При этом ты лай, но
так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать.
Зобатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять.
Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка:
— Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина? И писарь с
удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далёкого
альпийского пастушьего шалаша.
— Halt! — наконец сказал он. — Теперь служи, апорт трубку! Хорошо, а теперь спой
по-тирольски!
В помещении раздался рёв: «Голарио, голарио…»
Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика четыре сигареты «Спорт»
и великодушно подарил их Гансу, и тут Швейк на ломаном немецком языке принялся
рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он
делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу
своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет —
я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».
Писарь засмеялся:
— У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что
дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдём к главному. Я назначаю тебя
старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных.
Будешь получать на них питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за
каждого! Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем!
— Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь, — сказал Швейк.
— Только никаких сделок, — отрезал писарь. — Я этого не люблю, не то пошлю тебя в
лагерь. Больно быстро ты у нас, в Австрии, акклиматизировался. Уже хочешь со мной
поговорить частным образом… Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже… А
теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Ну, чего ещё?
— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebl! 286
— Вылетай! Видишь, сколько у меня работы! — Писарь изобразил на лице крайнюю
усталость.
Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во
286 Осмелюсь доложить, господин фельдфебель! (нем.)