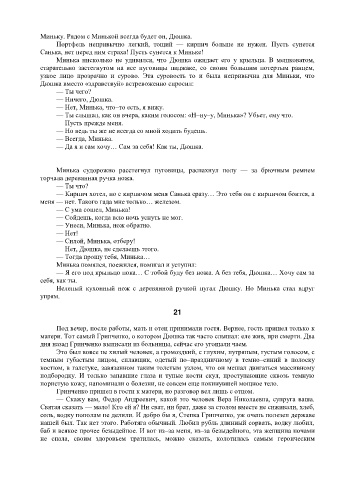Page 41 - Весенние перевертыши
P. 41
Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.
Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется
Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!
Минька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом,
старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем,
узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость то и была непривычна для Миньки, что
Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:
— Ты чего?
— Ничего, Дюшка.
— Нет, Минька, что–то есть, я вижу.
— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н–ну–у, Минька»? Убьет, ему что.
— Пусть прежде меня.
— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.
— Всегда, Минька.
— Да я и сам хочу… Сам за себя! Как ты, Дюшка.
Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем
торчала деревянная ручка ножа.
— Ты что?
— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу… Это тебя он с кирпичом боится, а
меня — нет. Такого гада мне только… железом.
— С ума сошел, Минька!
— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.
— Унеси, Минька, нож обратно.
— Нет!
— Силой, Минька, отберу!
— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.
— Тогда прошу тебя, Минька…
Минька помялся, поежился, помигал и уступил:
— Я его под крыльцо пока… С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка… Хочу сам за
себя, как ты.
Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг
упрям.
21
Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к
матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два
дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.
Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с
темным губастым лицом, сплавщик, одетый по–праздничному в темно–синий в полоску
костюм, в галстуке, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному
подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную
пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.
Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.
— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша.
Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сиживали, хлеб,
соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе
нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил,
баб и всякое прочее безыдейное. И вот из–за меня, из–за безыдейного, эта женщина ночами
не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим