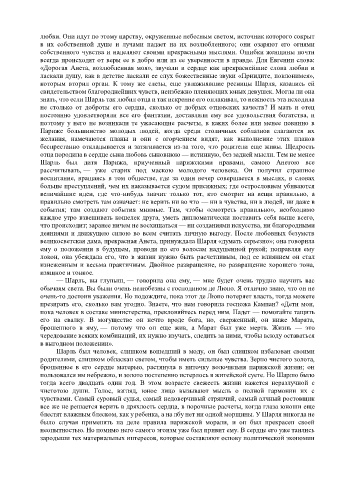Page 56 - Евгения Гранде
P. 56
любви. Они идут по этому царству, окруженные небесным светом, источник которого сокрыт
в их собственной душе и лучами падает на их возлюбленного; они озаряют его огнями
собственного чувства и наделяют своими прекрасными мыслями. Ошибки женщины почти
всегда происходят от веры ее в добро или из ее уверенности в правде. Для Евгении слова:
«Дорогая Анета, возлюбленная моя», звучали в сердце как прекраснейшие слова любви и
ласкали душу, как в детстве ласкали ее слух божественные звуки «Приидите, поклонимся»,
которым вторил орган. К тому же слезы, еще увлажнявшие ресницы Шарля, казались ей
свидетельством благороднейших чувств, неизбежно пленяющих юных девушек. Могла ли она
знать, что если Шарль так любил отца и так искренне его оплакивал, то нежность эта исходила
не столько от доброты его сердца, сколько от добрых отцовских качеств? И мать и отец
постоянно удовлетворяли все его фантазии, доставляли ему все удовольствия богатства, и
поэтому у него не возникали те ужасающие расчеты, в каких более или менее повинно в
Париже большинство молодых людей, когда среди столичных соблазнов слагаются их
желания, намечаются планы и они с огорчением видят, как выполнение этих планов
беспрестанно откладывается и затягивается из-за того, что родители еще живы. Щедрость
отца породила в сердце сына любовь сыновнюю — истинную, без задней мысли. Тем не менее
Шарль был дитя Парижа, приученный парижскими нравами, самою Анетою все
рассчитывать, — уже старик под маскою молодого человека. Он получил страшное
воспитание, вращаясь в том обществе, где за один вечер совершается в мыслях, в словах
больше преступлений, чем их наказывается судом присяжных; где острословием убиваются
величайшие идеи, где что-нибудь значит только тот, кто смотрит на вещи правильно, а
правильно смотреть там означает: не верить ни во что — ни в чувства, ни в людей, ни даже в
события; там создают события мнимые. Там, чтобы «смотреть правильно», необходимо
каждое утро взвешивать кошелек друга, уметь дипломатически поставить себя выше всего,
что происходит; заранее ничем не восхищаться — ни созданиями искусства, ни благородными
деяниями и движущею силою во всем считать личную выгоду. После любовных безумств
великосветская дама, прекрасная Анета, принуждала Шарля «думать серьезно»; она говорила
ему о положении в будущем, проводя по его волосам надушенной рукой; поправляя ему
локон, она убеждала его, что в жизни нужно быть расчетливым, под ее влиянием он стал
изнеженным и весьма практичным. Двойное развращение, но развращение хорошего тона,
изящное и тонкое.
— Шарль, вы глупыш, — говорила она ему, — мне будет очень трудно научить вас
обычаям света. Вы были очень нелюбезны с господином де Люпо. Я отлично знаю, что он не
очень-то достоин уважения. Но подождите, пока этот де Люпо потеряет власть, тогда можете
презирать его, сколько вам угодно. Знаете, что нам говорила госпожа Кампан? «Дети мои,
пока человек в составе министерства, преклоняйтесь перед ним. Падет — помогайте тащить
его на свалку. В могуществе он нечто вроде бога, но, сверженный, он ниже Марата,
брошенного в яму, — потому что он еще жив, а Марат был уже мертв. Жизнь — это
чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться
в выгодном положении».
Шарль был человек, слишком вошедший в моду, он был слишком избалован своими
родителями, слишком обласкан светом, чтобы иметь сильные чувства. Зерно чистого золота,
брошенное в его сердце матерью, растянула в ниточку волочильня парижской жизни; он
пользовался им небрежно, и золото постепенно истерлось в житейской суете. Но Шарлю было
тогда всего двадцать один год. В этом возрасте свежесть жизни кажется неразлучной с
чистотою души. Голос, взгляд, юное лицо вызывают мысль о полной гармонии их с
чувствами. Самый суровый судья, самый недоверчивый стряпчий, самый алчный ростовщик
все же не решается верить в дряхлость сердца, в порочные расчеты, когда глаза юноши еще
блестят влажным блеском, как у ребенка, а на лбу нет ни одной морщины. У Шарля никогда не
было случая применять на деле правила парижской морали, и он был прекрасен своей
неопытностью. Но помимо него самого эгоизм уже был привит ему. В сердце его уже таились
зародыши тех материальных интересов, которые составляют основу политической экономии