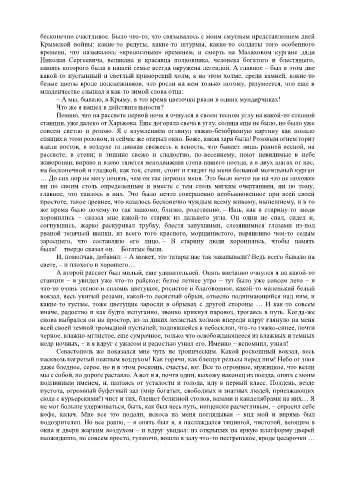Page 83 - Жизнь Арсеньева
P. 83
бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней
Крымской войны: какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного
времени, что называлось «крепостным» временем, и смерть на Малаховом кургане дяди
Николая Сергеевича, великана и красавца полковника, человека богатого и блестящего,
память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – был в этом дне
какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме, среди камней, какие-то
белые цветы вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в
младенчестве слышал я как-то зимой слова отца:
– А мы, бывало, в Крыму, в это время цветочки рвали в одних мундирчиках!
Что же я нашел в действительности?
Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной
станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже
совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко-безобразную картину как попало
спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит
вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на
рассвете, в степи; в тишине свежо и сладостно, по-весеннему, поют невидимые в небе
жаворонки, вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас,
на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган
… До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее
ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни по тому,
главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей
простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то
же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. – Ишь, как в старину-то люди
хоронились – сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и,
согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под
рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым
заросшего, что составляло его лицо. – В старину люди хоронились, чтобы память
была! – твердо сказал он. – Богатые были.
И, помолчав, добавил: – А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на
свете, – и плохого и хорошего…
А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то
станции – и увидел уже что-то райское: белое летнее утро – тут было уже совсем лето – и
что-то очень тесное и сплошь цветущее, росистое и благовонное, какой-то маленький белый
вокзал, весь увитый розами, какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и
какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны … И как-то совсем
иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда-же
снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня
всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко-синее, почти
черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных
недр ночных, – и я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно – вспомнил, узнал!
Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь
насквозь нагретый нежным воздухом! Как горячи, как блещут рельсы перед ним! Небо от зноя
даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное, мужицкое, что везли
мы с собой, по дороге растаяло. А вот и я, почти один, выхожу наконец из поезда, опять с моим
подлинным именем, и, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде
пустота, огромный буфетный зал (мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих
сюда с курьерскими!) чист и тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них… Я
не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым, – спросил себе
кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая – вид мой и впрямь был
подозрителен. Но все равно, – я опять был я, я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в
окна и двери жарким воздухом – и вдруг увидал: из открытых на яркую платформу дверей
неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки …