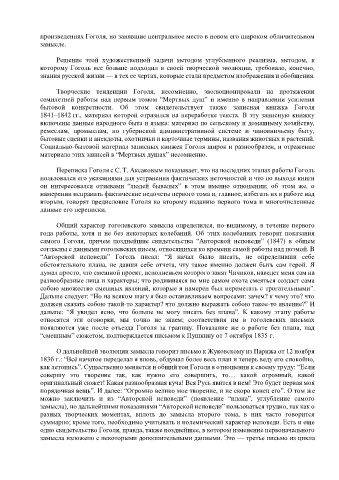Page 622 - Мертвые души
P. 622
произведениях Гоголя, но занявшие центральное место в новом его широком обличительном
замысле.
Решение этой художественной задачи методом углубленного реализма, методом, к
которому Гоголь все больше подходил в своей творческой эволюции, требовало, конечно,
знания русской жизни — в тех ее чертах, которые стали предметом изображения и обобщения.
Творческие тенденции Гоголя, несомненно, эволюционировали на протяжении
семилетней работы над первым томом “Мертвых душ” и именно в направлении усиления
бытовой конкретности. Об этом свидетельствует также записная книжка Гоголя
1841–1842 гг., материал которой отразился на переработке текста. В эту записную книжку
включены данные народного быта и языка: материал по сельскому и домашнему хозяйству,
ремеслам, промыслам, по губернской административной системе и чиновничьему быту,
бытовые сценки и анекдоты, охотничьи и карточные термины, названия животных и растений.
Социально-бытовой материал записных книжек Гоголя широк и разнообразен, и отражение
материала этих записей в “Мертвых душах” несомненно.
Переписка Гоголя с С. Т. Аксаковым показывает, что на последних этапах работы Гоголь
пользовался его указаниями для устранения фактических неточностей и что по выходе книги
он интересовался отзывами “людей бывалых” в этом именно отношении; об этом же, о
намерении исправить фактические недочеты первого тома и, главное, избегать их в работе над
вторым, говорят предисловие Гоголя ко второму изданию первого тома и многочисленные
данные его переписки.
Общий характер гоголевского замысла определился, по-видимому, в течение первого
года работы, хотя и не без некоторых колебаний. Об этих колебаниях говорят показания
самого Гоголя, причем позднейшие свидетельства “Авторской исповеди” (1847) в общем
согласны с данными гоголевских писем, относящихся ко времени самой работы над поэмой. В
“Авторской исповеди” Гоголь писал: “Я начал было писать, не определивши себе
обстоятельного плана, не давши себе отчета, чту такое именно должен быть сам герой. Я
думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на
разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама
собою множество смешных явлений, которые я намерен был переметать с трогательными”.
Дальше следует: “Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что
должен сказать собою такой-то характер? что должно выражать собою такое-то явление?” И
дальше: “Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана”. К какому этапу работы
относятся эти оговорки, мы точно не знаем; соответствия им в гоголевских письмах
появляются уже после отъезда Гоголя за границу. Показание же о работе без плана, над
“смешным” сюжетом, подтверждается письмом к Пушкину от 7 октября 1835 г.
О дальнейшей эволюции замысла говорит письмо к Жуковскому из Парижа от 12 ноября
183б г.: “Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно,
как летопись”. Существенно меняется и общий тон Гоголя в отношении к своему труду: “Если
совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой
оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя
порядочная вещь”. И далее: “Огромно велико мое творение, и не скоро конец его”. О том же
можно заключить и из “Авторской исповеди” (появление “плана”, углубление самого
замысла), но дальнейшими показаниями “Авторской исповеди” пользоваться трудно, так как о
разных творческих моментах, вплоть до замысла второго тома, в них часто говорится
суммарно; кроме того, необходимо учитывать и полемический характер исповеди. Есть и еще
одно свидетельство Гоголя, правда, также позднейшее, в котором изменение первоначального
замысла изложено с некоторыми дополнительными данными. Это — третье письмо из цикла