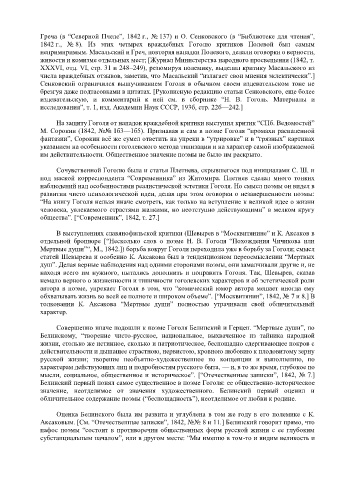Page 625 - Мертвые души
P. 625
Греча (в “Северной Пчеле”, 1842 г., № 137) и О. Сенковского (в “Библиотеке для чтения”,
1842 г., № 8). Из этих четырех враждебных Гоголю критиков Полевой был самым
непримиримым. Масальский и Греч, повторяя нападки Полевого, делали оговорки о верности,
живости и комизме отдельных мест; [Журнал Министерства народного просвещения (1842, т.
XXXVI, отд. VI, стр. 31 и 248–249), резюмируя полемику, выделил критику Масальского из
числа враждебных отзывов, заметив, что Масальcкий “излагает свои мнения эклектически”.]
Сенковский ограничился вышучиванием Гоголя в обычном своем издевательском тоне не
брезгуя даже подтасовками в цитатах. [Рукописную редакцию статьи Сенковского, еще более
издевательскую, и комментарий к ней см. в сборнике “Н. В. Гоголь. Материалы и
исследования”, т. 1, изд. Академии Наук СССР, 193б, стр. 22б—242.]
На защиту Гоголя от нападок враждебной критики выступил критик “СПб. Ведомостей”
М. Сорокин (1842, №№ 1б3—1б5). Признавая и сам в поэме Гоголя “промахи распаленной
фантазии”, Сорокин всё же сумел ответить на упреки в “утрировке” и в “грязных” картинах
указанием на особенности гоголевского метода типизации и на характер самой изображаемой
им действительности. Общественное значение поэмы не было им раскрыто.
Сочувственной Гоголю была и статья Плетнева, скрывшегося под инициалами С. Ш. и
под маской корреспондента “Современника” из Житомира. Плетнев сделал много тонких
наблюдений над особенностями реалистической эстетики Гоголя. Но смысл поэмы он видел в
развитии чисто психологической идеи, делая при этом оговорки о незавершенности поэмы:
“На книгу Гоголя нельзя иначе смотреть, как только на вступление к великой идее о жизни
человека, увлекаемого страстями жалкими, но неотступно действующими” в мелком кругу
общества”. [“Современник”, 1842, т. 27.]
В выступлениях славянофильской критики (Шевырев в “Москвитянине” и К. Аксаков в
отдельной брошюре [“Несколько слов о поэме Н. В. Гоголя “Похождения Чичикова или
Мертвые души”“, М., 1842.]) борьба вокруг Гоголя переходила уже в борьбу за Гоголя; смысл
статей Шевырева и особенно К. Аксакова был в тенденциозном переосмыслении “Мертвых
душ”. Делая верные наблюдения над одними сторонами поэмы, они замалчивали другие и, не
находя всего им нужного, пытались дополнить и поправить Гоголя. Так, Шевырев, сказав
немало верного о жизненности и типичности гоголевских характеров и об эстетической роли
автора в поэме, упрекает Гоголя в том, что “комический юмор автора мешает иногда ему
обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме”. [“Москвитянин”, 1842, № 7 и 8.] В
толковании К. Аксакова “Мертвые души” полностью утрачивали свой обличительный
характер.
Совершенно иначе подошли к поэме Гоголя Белинский и Герцен. “Мертвые души”, по
Белинскому, “творение чисто-русское, национальное, выхваченное из тайника народной
жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с
действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну
русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по
характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и, в то же время, глубокое по
мысли, социальное, общественное и историческое”. [“Отечественные записки”, 1842, № 7.]
Белинский первый понял самое существенное в поэме Гоголя: ее общественно-историческое
значение, неотделимое от значения художественного. Белинский первый оценил и
обличительное содержание поэмы (“беспощадность”), неотделимое от любви к родине.
Оценка Белинского была им развита и углублена в том же году в его полемике с К.
Аксаковым. [См. “Отечественные записки”, 1842, №№ 8 и 11.] Белинский говорит прямо, что
пафос поэмы “состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким
субстанциальным началом”, или в другом месте: “Мы именно в том-то и видим великость и