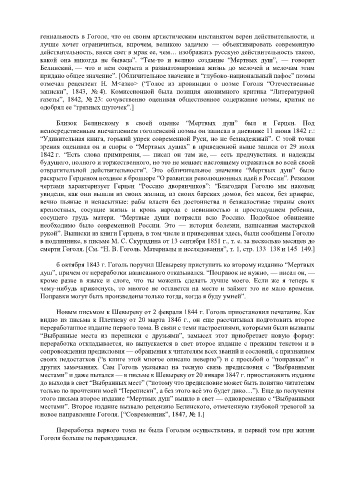Page 626 - Мертвые души
P. 626
гениальность в Гоголе, что он своим артистическим инстинктом верен действительности, и
лучше хочет ограничиться, впрочем, великою задачею — объективировать современную
действительность, внеся свет в мрак ее, чем… изображать русскую действительность такою,
какой она никогда не бывала”. “Тем-то и велико создание “Мертвых душ”, — говорит
Белинский, — что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей и мелочам этим
придано общее значение”. [Обличительное значение и “глубоко-национальный пафос” поэмы
отмечал рецензент Н. М<азко> (“Голос из провинции о поэме Гоголя “Отечественные
записки”, 1843, № 4). Комиссионной была позиция анонимного критика “Литературной
газеты”, 1842, № 23: сочувственно оценивая общественное содержание поэмы, критик не
одобрял ее “грязных шуточек”.]
Близок Белинскому в своей оценке “Мертвых душ” был и Герцен. Под
непосредственным впечатлением гоголевской поэмы он записал в дневнике 11 июня 1842 г.:
“Удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный”. С этой точки
зрения оценивал он и споры о “Мертвых душах” в приведенной выше записи от 29 июля
1842 г. “Есть слова примирения, — писал он там же, — есть предчувствия. и надежды
будущего, полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей своей
отвратительной действительности”. Это обличительное значение “Мертвых душ” было
раскрыто Герценом позднее в брошюре “О развитии революционных идей в России”. Резкими
чертами характеризует Герцен “Россию дворянчиков”: “Благодаря Гоголю мы наконец
увидели, как они вышли из своих жилищ, из своих барских домов, без масок, без прикрас,
вечно пьяные и ненасытные: рабы власти без достоинства и безжалостные тираны своих
крепостных, сосущие жизнь и кровь народа с невинностью и простодушием ребенка,
сосущего грудь матери. “Мертвые души потрясли всю Россию. Подобное обвинение
необходимо было современной Pоссии. Это — история болезни, написанная мастерской
рукой”. Выписки из книги Герцена, в том числе и приведенная здесь, были сообщены Гоголю
в подлиннике, в письме М. С. Скуридина от 13 сентября 1851 г., т. е. за несколько месяцев до
смерти Гоголя. [См. “Н. В. Гоголь. Материалы и исследования”, т. 1, стр. 133–138 и 145–149.]
б октября 1843 г. Гоголь поручил Шевыреву приступить ко второму изданию “Мертвых
душ”, причем от переработки написанного отказывался. “Поправок не нужно, — писал он, —
кроме разве в языке и слоге, что ты можешь сделать лучше моего. Если же я теперь к
чему-нибудь прикоснусь, то многое не останется на месте и займет это не мало времени.
Поправки могут быть произведены только тогда, когда я буду умней”.
Новым письмом к Шевыреву от 2 февраля 1844 г. Гоголь приостановил печатание. Как
видно из письма к Плетневу от 20 марта 184б г., он еще рассчитывал подготовить второе
переработанное издание первого тома. В связи с теми настроениями, которыми были вызваны
“Выбранные места из переписки с друзьями”, замысел этот приобретает новую форму:
переработка откладывается, но выпускается в свет второе издание с прежним текстом и в
сопровождении предисловия — обращения к читателям всех званий и сословий, с признанием
своих недостатков (“в книге этой многое описано неверно”) и с просьбой о “поправках” и
других замечаниях. Сам Гоголь указывал на тесную связь предисловия с “Выбранными
местами” и даже пытался — в письме к Шевыреву от 20 января 1847 г. приостановить издание
до выхода в свет “Выбранных мест” (“потому что предисловие может быть понятно читателям
только по прочтении моей “Переписки”, а без этого всё это будет дико…”). Еще до получения
этого письма второе издание “Мертвых душ” вышло в свет — одновременно с “Выбранными
местами”. Второе издание вызвало рецензию Белинского, отмеченную глубокой тревогой за
новое направление Гоголя. [“Современник”, 1847, № 1.]
Переработка первого тома не была Гоголем осуществлена, и первый том при жизни
Гоголя больше не переиздавался.