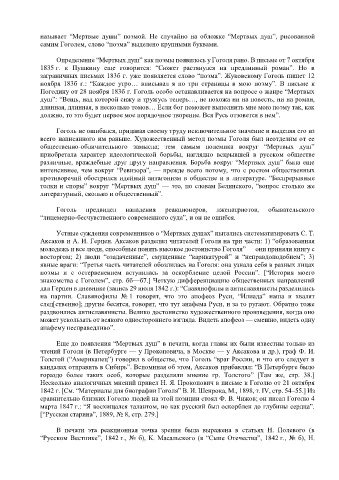Page 624 - Мертвые души
P. 624
называет “Мертвые души” поэмой. Не случайно на обложке “Мертвых душ”, рисованной
самим Гоголем, слово “поэма” выделено крупными буквами.
Определение “Мертвых душ” как поэмы появилось у Гоголя рано. В письме от 7 октября
1835 г. к Пушкину еще говорится: “Сюжет растянулся на предлинный роман”. Но в
заграничных письмах 183б г. уже появляется слово “поэма”. Жуковскому Гоголь пишет 12
ноября 183б г.: “Каждое утро… вписывал я по три страницы в мою поэму”. В письме к
Погодину от 28 ноября 183б г. Гоголь особо останавливается на вопросе о жанре “Мертвых
душ”: “Вещь, над которой сижу и тружусь теперь…, не похожа ни на повесть, ни на роман,
длинная, длинная, в несколько томов… Если бог поможет выполнить мне мою поэму так, как
должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем”.
Гоголь не ошибался, придавая своему труду исключительное значение и выделяя его из
всего написанного им раньше. Художественный метод поэмы Гоголя был неотделим от ее
общественно-обличительного замысла; тем самым полемика вокруг “Мертвых душ”
приобретала характер идеологической борьбы, наглядно вскрывшей в русском обществе
различные, враждебные друг другу направления. Борьба вокруг “Мертвых душ” была еще
интенсивнее, чем вокруг “Ревизора”, — прежде всего потому, что с ростом общественных
противоречий обострился идейный антагонизм в обществе и в литературе. “Беспрерывные
толки и споры” вокруг “Мертвых душ” — это, по словам Белинского, “вопрос столько же
литературный, сколько и общественный”.
Гоголь предвидел нападения реакционеров, лжепатриотов, обывательского
“лицемерно-бесчувственного современного суда”, и он не ошибся.
Устные суждения современников о “Мертвых душах” пытались систематизировать С. Т.
Аксаков и А. И. Герцен. Аксаков разделил читателей Гоголя на три части: 1) “образованная
молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя” — они приняли книгу с
восторгом; 2) люди “озадаченные”, смущенные “карикатурой” и “неправдоподобием”; 3)
явные враги: “Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах
поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России”. [“История моего
знакомства с Гоголем”, стр. бб—б7.] Четкую дифференциацию общественных направлений
дал Герцен в дневнике (запись 29 июля 1842 г.): “Славянофилы и антиславянисты разделились
на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апофеоз Руси, “Илиада” наша и хвалят
след[ственно]; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже
раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно
может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апофеоз — смешно, видеть одну
анафему несправедливо”.
Еще до появления “Мертвых душ” в печати, когда главы их были известны только из
чтений Гоголя (в Петербурге — у Прокоповича, в Москве — у Аксакова и др.), граф Ф. И.
Толстой (“Американец”) говорил в обществе, что Гоголь “враг России, и что его следует в
кандалах отправить в Сибирь”. Вспоминая об этом, Аксаков прибавлял: “В Петербурге было
гораздо более таких особ, которые разделяли мнение гр. Толстого” [Там же, стр. 38.]
Несколько аналогичных мнений привел Н. Я. Прокопович в письме к Гоголю от 21 октября
1842 г. [См. “Материалы для биографии Гоголя” В. И. Шенрока, М., 1898, т. IV, стр. 54–55.] Из
сравнительно близких Гоголю людей на этой позиции стоял Ф. В. Чижов; он писал Гоголю 4
марта 1847 г.: “Я восхищался талантом, но как русский был оскорблен до глубины сердца”.
[“Русская старина”, 1889, № 8, стр. 279.]
В печати эта реакционная точка зрения была выражена в статьях Н. Полевого (в
“Русском Вестнике”, 1842 г., № б), К. Масальского (в “Сыне Отечества”, 1842 г., № б), Н.