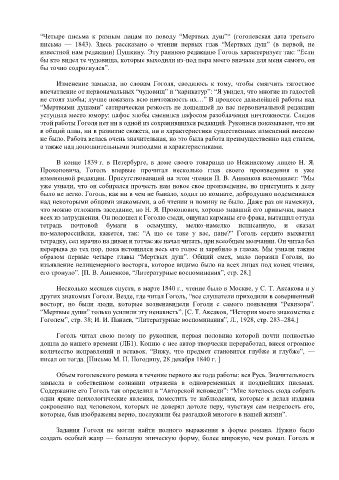Page 623 - Мертвые души
P. 623
“Четыре письма к разным лицам по поводу “Мертвых душ”“ (гоголевская дата третьего
письма — 1843). Здесь рассказано о чтении первых глав “Мертвых душ” (в первой, не
известной нам редакции) Пушкину. Эту раннюю редакцию Гоголь характеризует так: “Если
бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он
бы точно содрогнулся”.
Изменение замысла, по словам Гоголя, сводилось к тому, чтобы смягчить тягостное
впечатление от первоначальных “чудовищ” и “карикатур”: “Я увидел, что многие из гадостей
не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их…” В процессе дальнейшей работы над
“Мертвыми душами” сатирическая резкость не дошедшей до нас первоначальной редакции
уступила место юмору: пафос злобы сменился пафосом разоблачения ничтожности. Следов
этой работы Гоголя нет ни в одной из сохранившихся редакций. Рукописи показывают, что ни
в общий план, ни в развитие сюжета, ни в характеристики существенных изменений внесено
не было. Работа велась очень значительная, но это была работа преимущественно над стилем,
а также над дополнительными эпизодами и характеристиками.
В конце 1839 г. в Петербурге, в доме своего товарища по Нежинскому лицею Н. Я.
Прокоповича, Гоголь впервые прочитал несколько глав своего произведения в уже
измененной редакции. Присутствовавший на этом чтении П. В. Анненков вспоминает: “Мы
уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу
было не легко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался
над некоторыми общими знакомыми, а об чтении и помину не было. Даже раз он намекнул,
что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел
всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда
тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал
по-малороссийски, кажется, так: “А що се таке у вас, пане?” Гоголь сердито выхватил
тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без
перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким
образом первые четыре главы “Мертвых душ”. Общий смех, мало поразил Гоголя, но
изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения,
его тронуло”. [П. В. Анненков, “Литературные воспоминания”, стр. 28.]
Несколько месяцев спустя, в марте 1840 г., чтение было в Москве, у С. Т. Аксакова и у
других знакомых Гоголя. Везде, где читал Гоголь, “все слушатели приходили в совершенный
восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления “Ревизора”.
“Мертвые души” только усилили эту ненависть”. [С. Т. Аксаков, “История моего знакомства с
Гоголем”, стр. 38; И. И. Панаев, “Литературные воспоминания”, Л., 1928, стр. 283–284.]
Гоголь читал свою поэму по рукописи, первая половина которой почти полностью
дошла до нашего времени (ЛБ1). Копию с нее автор творчески переработал, внеся огромное
количество исправлений и вставок. “Вижу, что предмет становится глубже и глубже”, —
писал он тогда. [Письмо М. П. Погодину, 28 декабря 1840 г. ]
Объем гоголевского романа в течение первого же года работы: вся Русь. Значительность
замысла в собственном сознании отражена в одновременных и позднейших письмах.
Содержание его Гоголь так определил в “Авторской исповеди”: “Мне хотелось сюда собрать
одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна
сокровенно над человеком, которых не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его,
которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни”.
Задания Гоголя не могли найти полного выражения в форме романа. Нужно было
создать особый жанр — большую эпическую форму, более широкую, чем роман. Гоголь и