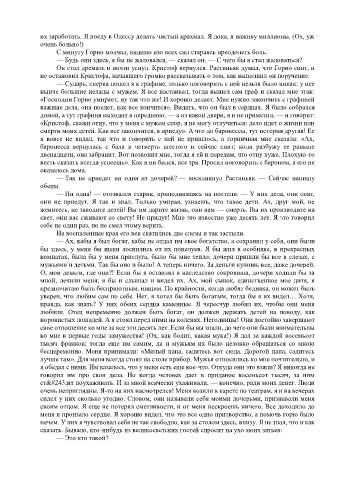Page 127 - Отец Горио
P. 127
их заработать. Я поеду в Одессу делать чистый крахмал. Я дока, я наживу миллионы. (Ох, уж
очень больно!)
С минуту Горио молчал, видимо изо всех сил стараясь преодолеть боль.
— Будь они здесь, я бы не жаловался, — сказал он. — С чего бы я стал жаловаться?
Он стал дремать и почти уснул. Кристоф вернулся. Растиньяк думал, что Горио спит, и
не остановил Кристофа, начавшего громко рассказывать о том, как выполнил он поручение.
— Сударь, сперва пошел я к графине, только поговорить с ней нельзя было никак: у нее
нынче большие нелады с мужем. Я все настаивал, тогда вышел сам граф и сказал мне этак:
«Господин Горио умирает, ну так что же! И хорошо делает. Мне нужно закончить с графиней
важные дела, она поедет, как все кончится». Видать, что он был в сердцах. Я было собрался
домой, а тут графиня выходит в переднюю, — а из какой двери, я и не приметил, — и говорит:
«Кристоф, скажи отцу, что у меня с мужем спор, я не могу отлучиться: дело идет о жизни или
смерти моих детей. Как все закончится, я приеду». А что до баронессы, тут история другая! Ее
я вовсе не видал, так что и говорить с ней не пришлось, а горничная мне сказала: «Ах,
баронесса вернулась с бала в четверть шестого и сейчас спит; коли разбужу ее раньше
двенадцати, она забранит. Вот позвонит мне, тогда я ей и передам, что отцу хуже. Плохую-то
весть сказать всегда успеешь». Как я ни бился, все зря. Просил поговорить с бароном, а его не
оказалось дома.
— Так не приедет ни одна из дочерей? — воскликнул Растиньяк. — Сейчас напишу
обеим.
— Ни одна! — отозвался старик, приподнимаясь на постели. — У них дела, они спят,
они не приедут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах, друг мой, не
женитесь, не заводите детей! Вы им дарите жизнь, они вам — смерть. Вы их производите на
свет, они вас сживают со свету! Не придут! Мне это известно уже десять лет. Я это говорил
себе не один раз, но не смел этому верить.
На воспаленные края его век скатились две слезы и так застыли.
— Ах, кабы я был богат, кабы не отдал им свое богатство, а сохранил у себя, они были
бы здесь, у меня бы щеки лоснились от их поцелуев. Я бы жил в особняке, в прекрасных
комнатах, была бы у меня прислуга, было бы мне тепло; дочери пришли бы все в слезах, с
мужьями и детьми. Так бы оно и было! А теперь ничего. За деньги купишь все, даже дочерей.
О, мои деньги, где они?! Если бы я оставлял в наследство сокровища, дочери ходили бы за
мной, лечили меня; я бы и слышал и видел их. Ах, мой сынок, единственное мое дитя, я
предпочитаю быть бесприютным, нищим. По крайности, когда любят бедняка, он может быть
уверен, что любим сам по себе. Нет, я хотел бы быть богатым, тогда бы я их видел… Хотя,
правда, как знать? У них обеих сердца каменные. Я чересчур любил их, чтобы они меня
любили. Отец непременно должен быть богат, он должен держать детей на поводу, как
норовистых лошадей. А я стоял перед ними на коленях. Негодницы! Они достойно завершают
свое отношение ко мне за все эти десять лет. Если бы вы знали, до чего они были внимательны
ко мне в первые годы замужества! (Ох, как болит, какая мука!) Я дал за каждой восемьсот
тысяч франков; тогда еще им самим, да и мужьям их было неловко обращаться со мною
бесцеремонно. Меня принимали: «Милый папа, садитесь вот сюда. Дорогой папа, садитесь
лучше там». Для меня всегда стоял на столе прибор. Мужья относились ко мне почтительно, и
я обедал с ними. Им казалось, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я никогда не
говорил им про свои дела. Но когда человек дает в приданое восемьсот тысяч, за ним
стóит поухаживать. И за мной всячески ухаживали, — конечно, ради моих денег. Люди
очень неприглядны. Я-то на них насмотрелся! Меня возили в карете по театрам, я и на вечерах
сидел у них сколько угодно. Словом, они называли себя моими дочерьми, признавали меня
своим отцом. Я еще не потерял сметливости, и от меня нескроешь ничего. Все доходило до
меня и пронзало сердце. Я хорошо видел, что это все одно притворство, а помочь горю было
нечем. У них я чувствовал себя не так свободно, как за столом здесь, внизу. Я не знал, что и как
сказать. Бывало, кто-нибудь из великосветских гостей спросит на ухо моих зятьев:
— Это кто такой?