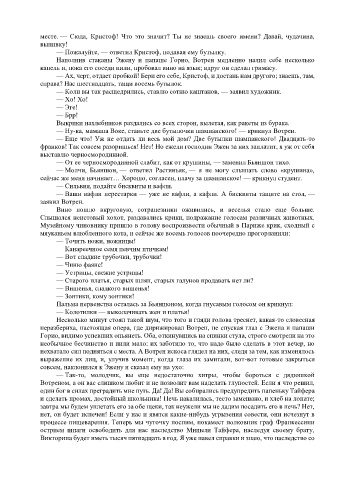Page 87 - Отец Горио
P. 87
месте. — Сюда, Кристоф! Что это значит? Ты не знаешь своего имени? Давай, чудачина,
выпивку!
— Пожалуйте, — ответил Кристоф, подавая ему бутылку.
Наполнив стаканы Эжену и папаше Горио, Вотрен медленно налил себе несколько
капель и, пока его соседи пили, пробовал вино на язык; вдруг он сделал гримасу.
— Ах, черт, отдает пробкой! Бери его себе, Кристоф, и достань нам другого; знаешь, там,
справа? Нас шестнадцать, тащи восемь бутылок.
— Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов, — заявил художник.
— Хо! Хо!
— Эге!
— Брр!
Выкрики нахлебников раздались со всех сторон, вылетая, как ракеты из бурака.
— Ну-ка, мамаша Воке, ставьте две бутылочки шампанского! — крикнул Вотрен.
— Еще что! Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки шампанского! Двадцать-то
франков! Так совсем разоришься! Нет! Но ежели господин Эжен за них заплатит, я уж от себя
выставлю черносмородинной.
— От ее черносмородинной слабит, как от крушины, — заменил Бьяншон тихо.
— Молчи, Бьяншон, — ответил Растиньяк, — я не могу слышать слово «крушина»,
сейчас же меня начинает… Хорошо, согласен, плачу за шампанское! — крикнул студент.
— Сильвия, подайте бисквиты и вафли.
— Ваши вафли перестарки — уже не вафли, а кафли. А бисквиты тащите на стол, —
заявил Вотрен.
Вино пошло вкруговую, сотрапезники оживились, и веселья стало еще больше.
Слышался неистовый хохот, раздавались крики, подражание голосам различных животных.
Музейному чиновнику пришло в голову воспроизвести обычный в Париже крик, сходный с
мяуканьем влюбленного кота, и сейчас же восемь голосов поочередно прогорланили:
— Точить ножи, ножницы!
— Канареечное семя певчим птичкам!
— Вот сладкие трубочки, трубочки!
— Чиню фаянс!
— Устрицы, свежие устрицы!
— Старого платья, старых шляп, старых галунов продавать нет ли?
— Вишенья, сладкого вишенья!
— Зонтики, кому зонтики!
Пальма первенства осталась за Бьяншоном, когда гнусавым голосом он крикнул:
— Колотилки — выколачивать жен и платья!
Несколько минут стоял такой шум, что того и гляди голова треснет, какая-то словесная
неразбериха, настоящая опера, где дирижировал Вотрен, не спуская глаз с Эжена и папаши
Горио, видимо успевших опьянеть. Оба, откинувшись на спинки стула, строго смотрели на это
необычное бесчинство и пили мало: их заботило то, что надо было сделать в этот вечер, но
нехватало сил подняться с места. А Вотрен искоса глядел на них, следя за тем, как изменялось
выражение их лиц, и, улучив момент, когда глаза их замигали, вот-вот готовые закрыться
совсем, наклонился к Эжену и сказал ему на ухо:
— Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитры, чтобы бороться с дядюшкой
Вотреном, а он вас слишком любит и не позволит вам наделать глупостей. Если я что решил,
один бог в силах преградить мне путь. Да! Да! Вы собирались предупредить папеньку Тайфера
и сделать промах, достойный школьника! Печь накалилась, тесто замешано, и хлеб на лопате;
завтра мы будем уплетать его за обе щеки, так неужели мы не дадим посадить его в печь? Нет,
нет, он будет испечен! Если у нас и явятся какие-нибудь угрызения совести, они исчезнут в
процессе пищеварения. Теперь мы чуточку поспим, покамест полковник граф Франкессини
острием шпаги освободить для нас наследство Мишеля Тайфера, наследуя своему брату,
Викторина будет иметь тысяч пятнадцать в год. Я уже навел справки и знаю, что наследство со