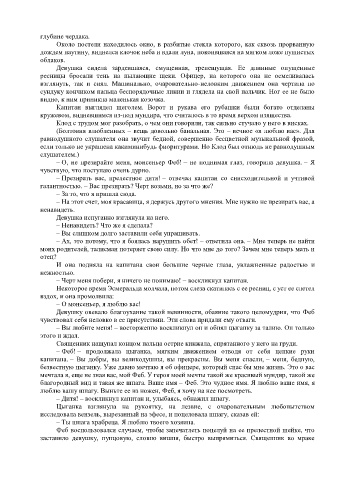Page 158 - Собор Парижской Богоматери
P. 158
глубине чердака.
Около постели находилось окно, в разбитые стекла которого, как сквозь прорванную
дождем паутину, виднелся клочок неба и вдали луна, покоившаяся на мягком ложе пушистых
облаков.
Девушка сидела зардевшаяся, смущенная, трепещущая. Ее длинные опущенные
ресницы бросали тень на пылающие щеки. Офицер, на которого она не осмеливалась
взглянуть, так и сиял. Машинально, очаровательно-неловким движением она чертила по
сундуку кончиком пальца беспорядочные линии и глядела на свой пальчик. Ног ее не было
видно, к ним приникла маленькая козочка.
Капитан выглядел щеголем. Ворот и рукава его рубашки были богато отделаны
кружевом, видневшимся из-под мундира, что считалось в то время верхом изящества.
Клод с трудом мог разобрать, о чем они говорили, так сильно стучало у него в висках.
(Болтовня влюбленных – вещь довольно банальная. Это – вечное «я люблю вас». Для
равнодушного слушателя она звучит бедной, совершенно бесцветной музыкальной фразой,
если только не украшена какиминибудь фиоритурами. Но Клод был отнюдь не равнодушным
слушателем.)
– О, не презирайте меня, монсеньер Феб! – не поднимая глаз, говорила девушка. – Я
чувствую, что поступаю очень дурно.
– Презирать вас, прелестное дитя! – отвечал капитан со снисходительной и учтивой
галантностью. – Вас презирать? Черт возьми, но за что же?
– За то, что я пришла сюда.
– На этот счет, моя красавица, я держусь другого мнения. Мне нужно не презирать вас, а
ненавидеть.
Девушка испуганно взглянула на него.
– Ненавидеть? Что же я сделала?
– Вы слишком долго заставили себя упрашивать.
– Ах, это потому, что я боялась нарушить обет! – ответила она. – Мне теперь не найти
моих родителей, талисман потеряет свою силу. Но что мне до того? Зачем мне теперь мать и
отец?
И она подняла на капитана свои большие черные глаза, увлажненные радостью и
нежностью.
– Черт меня побери, я ничего не понимаю! – воскликнул капитан.
Некоторое время Эсмеральда молчала, потом слеза скатилась с ее ресниц, с уст ее слетел
вздох, и она промолвила:
– О монсеньер, я люблю вас!
Девушку овевало благоухание такой невинности, обаяние такого целомудрия, что Феб
чувствовал себя неловко в ее присутствии. Эти слова придали ему отваги.
– Вы любите меня! – восторженно воскликнул он и обнял цыганку за талию. Он только
этого и ждал.
Священник нащупал концом пальца острие кинжала, спрятанного у него на груди.
– Феб! – продолжала цыганка, мягким движением отводя от себя цепкие руки
капитана. – Вы добры, вы великодушны, вы прекрасны. Вы меня спасли, – меня, бедную,
безвестную цыганку. Уже давно мечтаю я об офицере, который спас бы мне жизнь. Это о вас
мечтала я, еще не зная вас, мой Феб. У героя моей мечты такой же красивый мундир, такой же
благородный вид и такая же шпага. Ваше имя – Феб. Это чудное имя. Я люблю ваше имя, я
люблю вашу шпагу. Выньте ее из ножен, Феб, я хочу на нее посмотреть.
– Дитя! – воскликнул капитан и, улыбаясь, обнажил шпагу.
Цыганка взглянула на рукоятку, на лезвие, с очаровательным любопытством
исследовала вензель, вырезанный на эфесе, и поцеловала шпагу, сказав ей:
– Ты шпага храбреца. Я люблю твоего хозяина.
Феб воспользовался случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на ее прелестной шейке, что
заставило девушку, пунцовую, словно вишня, быстро выпрямиться. Священник во мраке