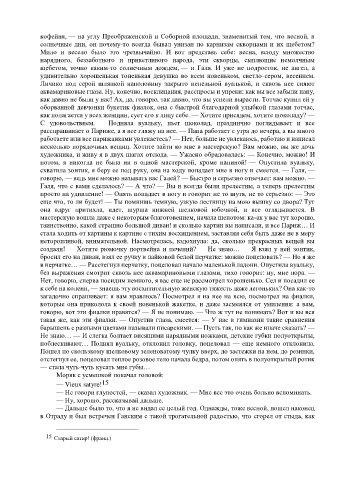Page 55 - Темные аллеи
P. 55
кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в
солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом?
Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество
нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным
щебетом, точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а
удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем.
Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют
аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу,
как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у
оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас,
как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. — Хотите присядем, хотите шоколаду? —
С удовольствием. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все
расспрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много
работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал
несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь
художника, и живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И
потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! — Опустила вуальку,
схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется. — Галя, —
говорю, — ведь мне можно называть вас Галей? — Быстро и серьезно отвечает: вам можно. —
Галя, что с вами сделалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны
просто на удивление! — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это
еще что, то ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут
она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В
мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо,
таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж… И
стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру
неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы
создали! — Хотите рюмочку портвейна и печений? — Не знаю… — Я взял у ней зонтик,
бросил его на диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? — Но я же
в перчатке… — Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку,
без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну, мне пора. —
Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько. Сел и посадил ее
к себе на колени, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких? Она как-то
загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки,
которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам,
говорю, вот эти фиалки нравятся? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся
такая же, как эти фиалки. — Опустив глаза, смеется: — У нас в гимназии такие сравнения
барышень с разными цветами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? —
Не знаю… — И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты,
поблескивают… Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал — еще немного отклонила.
Пошел по скользкому шелковому зеленоватому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки,
отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик
— стала чуть-чуть кусать мне губы…
Моряк с усмешкой покачал головой:
— Vieux satyre! 15
— Не говори глупостей, — сказал художник. — Мне все это очень больно вспоминать.
— Ну, хорошо, рассказывай дальше.
— Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец
в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как
15 Старый сатир! (франц.)