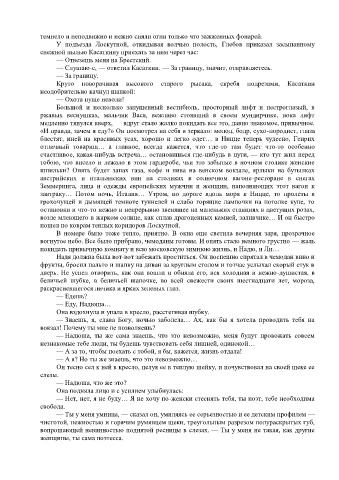Page 58 - Темные аллеи
P. 58
темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.
У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному
снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:
— Отвезешь меня на Брестский.
— Слушаю-с, — ответил Касаткин. — За границу, значит, отправляетесь.
— За границу.
Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин
неодобрительно качнул шапкой:
— Охота пуще неволи!
Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в
ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт
медленно тянулся вверх, — вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное.
«И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза
блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет… в Ницце теперь чудесно, Генрих
отличный товарищ… а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно
счастливое, какая-нибудь встреча… остановишься где-нибудь в пути, — кто тут жил перед
тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские
шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках
австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах
Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к
завтраку… Потом ночь, Италия… Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в
грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то
остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах,
возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике… И он быстро
пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.
В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное
вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль
покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли…
Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и
фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в
дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в
беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза,
раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.
— Едешь?
— Еду, Надюша…
Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.
— Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела… Ах, как бы я хотела проводить тебя на
вокзал! Почему ты мне не позволяешь?
— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем
незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой…
— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!
— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно…
Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее
слезы.
— Надюша, что же это?
Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:
— Нет, нет, я не буду… Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима
свобода.
— Ты у меня умница, — сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем —
чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ,
вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. — Ты у меня не такая, как другие
женщины, ты сама поэтесса.