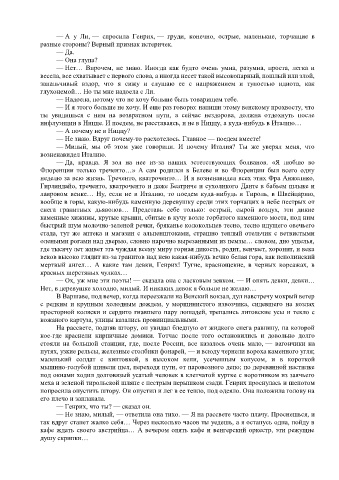Page 61 - Темные аллеи
P. 61
— А у Ли, — спросила Генрих, — груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в
разные стороны? Верный признак истеричек.
— Да.
— Она глупа?
— Нет… Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и
весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой,
запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как
глухонемой… Но ты мне надоела с Ли.
— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.
— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что
ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после
инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию…
— А почему не в Ниццу?
— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!
— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что
возненавидел Италию.
— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во
Флоренции только треченто…» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну
неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто… И я возненавидел всех этих Фра Анжелико,
Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и
лавровом венке… Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию,
вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от
снега гранитных дьяволов… Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие
каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним
быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего
стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми
оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы… словом, дно ущелья,
где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века
веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский
мертвый ангел… А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах, в
красных шерстяных чулках…
— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком. — И опять девки, девки…
Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю…
В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер
с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах
просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с
кожаного картуза, улицы казались провинциальными.
На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой
кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго
стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало, — вагончики на
путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, — и всюду чернели вороха каменного угля;
маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой
мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке
под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего
меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом
попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на
его плечо и заплакала.
— Генрих, что ты? — сказал он.
— Не знаю, милый, — ответила она тихо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и
так вдруг станет жалко себя… Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в
кафе ждать своего австрийца… А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие
душу скрипки…