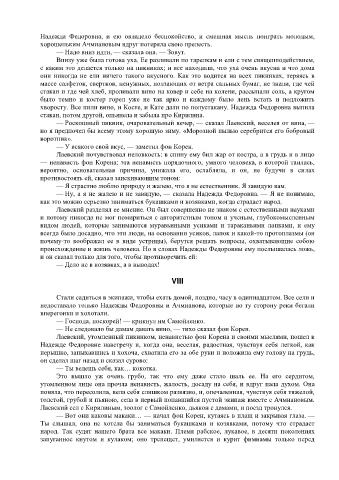Page 22 - Дуэль
P. 22
Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым,
хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.
— Надо вниз идти, — сказала она. — Зовут.
Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием,
с каким это делается только на пикниках; и все находили, что уха очень вкусна и что дома
они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в
массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей
стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом
было темно и костер горел уже не так ярко и каждому было лень встать и подложить
хворосту. Все пили вино, и Косте, и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила
стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кирилина.
— Роскошный пикник, очаровательный вечер, — сказал Лаевский, веселея от вина, —
но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый
воротник».
— У всякого свой вкус, — заметил фон Корен.
Лаевский почувствовал неловкость: в спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо
— ненависть фон Корена; эта ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась,
вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах
противостоять ей, сказал заискивающим тоном:
— Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам.
— Ну, а я не жалею и не завидую, — сказала Надежда Федоровна. — Я не понимаю,
как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ.
Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно не знаком с естественными науками
и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным
видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему
всегда было досадно, что эти люди, на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы (он
почему-то воображал ее в виде устрицы), берутся решать вопросы, охватывающие собою
происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь,
и он сказал только для того, чтобы противоречить ей:
— Дело не в козявках, а в выводах!
VIII
Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели и
недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали
вперегонки и хохотали.
— Господа, поскорей! — крикнул им Самойленко.
— Не следовало бы дамам давать вино, — тихо сказал фон Корен.
Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корена и своими мыслями, пошел к
Надежде Федоровне навстречу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как
перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь,
он сделал шаг назад и сказал сурово:
— Ты ведешь себя, как… кокотка.
Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало шаль ее. На его сердитом,
утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдруг пала духом. Она
поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно, и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой,
толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым.
Лаевский сел с Кирилиным, зоолог с Самойленко, дьякон с дамами, и поезд тронулся.
— Вот они каковы макаки… — начал фон Корен, кутаясь в плащ и закрывая глаза. —
Ты слышал, она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает
народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях
запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед