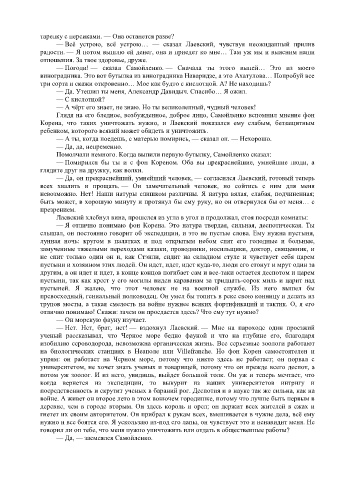Page 25 - Дуэль
P. 25
тарелку с персиками. — Она останется разве?
— Всё устрою, всё устрою… — сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив
радости. — Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне… Там уж мы и выясним наши
отношения. За твое здоровье, друже.
— Погоди! — сказал Самойленко. — Сначала ты этого выпей… Это из моего
виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе, а это Ахатулова… Попробуй все
три сорта и скажи откровенно… Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?
— Да. Утешил ты меня, Александр Давидыч. Спасибо… Я ожил.
— С кислотцой?
— А чёрт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек!
Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон
Корена, что таких уничтожать нужно, и Лаевский показался ему слабым, беззащитным
ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить.
— А ты, когда поедешь, с матерью помирись, — сказал он. — Нехорошо.
— Да, да, непременно.
Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал:
— Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди, а
глядите друг на дружку, как волки.
— Да, он прекраснейший, умнейший человек, — согласился Лаевский, готовый теперь
всех хвалить и прощать. — Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня
невозможно. Нет! Наши натуры слишком различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная;
быть может, в хорошую минуту и протянул бы ему руку, но он отвернулся бы от меня… с
презрением.
Лаевский хлебнул вина, прошелся из угла в угол и продолжал, стоя посреди комнаты:
— Я отлично понимаю фон Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты
слышал, он постоянно говорит об экспедиции, и это не пустые слова. Ему нужна пустыня,
лунная ночь: кругом в палатках и под открытым небом спят его голодные и больные,
замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, доктор, священник, и
не спит только один он и, как Стэнли, сидит на складном стуле и чувствует себя царем
пустыни и хозяином этих людей. Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за
другим, а он идет и идет, в конце концов погибает сам и все-таки остается деспотом и царем
пустыни, так как крест у его могилы виден караванам за тридцать-сорок миль и царит над
пустыней. Я жалею, что этот человек не на военной службе. Из него вышел бы
превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из
трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик. О, я его
отлично понимаю! Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно?
— Он морскую фауну изучает.
— Нет. Нет, брат, нет! — вздохнул Лаевский. — Мне на пароходе один проезжий
ученый рассказывал, что Черное море бедно фауной и что на глубине его, благодаря
изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь. Все серьезные зоологи работают
на биологических станциях в Неаполе или Villefranche. Но фон Корен самостоятелен и
упрям: он работает на Черном море, потому что никто здесь не работает; он порвал с
университетом, не хочет знать ученых и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а
потом уж зоолог. И из него, увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что
когда вернется из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и
посредственность и скрутит ученых в бараний рог. Деспотия и в науке так же сильна, как на
войне. А живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в
деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орел; он держит всех жителей в ежах и
гнетет их своим авторитетом. Он прибрал к рукам всех, вмешивается в чужие дела, всё ему
нужно и все боятся его. Я ускользаю из-под его лапы, он чувствует это и ненавидит меня. Не
говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить или отдать в общественные работы?
— Да, — засмеялся Самойленко.