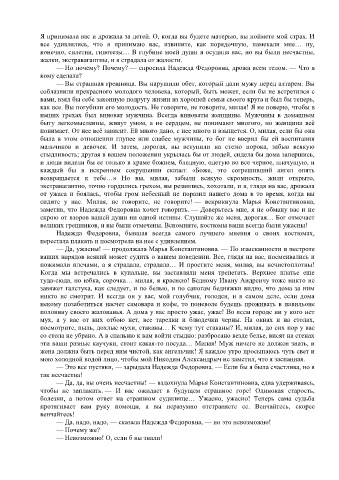Page 28 - Дуэль
P. 28
Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И
все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне… ну,
конечно, сплетни, гипотезы… В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны,
жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости.
— Но почему? Почему? — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. — Что я
кому сделала?
— Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы
соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с
вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь,
как все. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не поверю, чтобы в
наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем
быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого, но женщина всё
понимает. От нее всё зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О, милая, если бы она
была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то бог не вверил бы ей воспитания
мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую
стыдливость; другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись,
и люди видели бы ее только в храме божием, бледную, одетую во все черное, плачущую, и
каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять
возвращается к тебе…» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто,
экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала
от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы
сидите у нас. Милая, не говорите, не говорите! — вскрикнула Марья Константиновна,
заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. — Доверьтесь мне, я не обману вас и не
скрою от взоров вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая… Бог отмечает
великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!
Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах,
перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением.
— Да, ужасны! — продолжала Марья Константиновна. — По изысканности и пестроте
ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и
пожимали плечами, а я страдала, страдала… И простите меня, милая, вы нечистоплотны!
Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще
туда-сюда, но юбка, сорочка… милая, я краснею! Бедному Ивану Андреичу тоже никто не
завяжет галстука, как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним
никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома
некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне
половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет
мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах,
посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы… К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас
со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано везде белье, висят на стенах
эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда… Милая! Муж ничего не должен знать, и
жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик! Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и
мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрыч не заметил, что я заспанная.
— Это все пустяки, — зарыдала Надежда Федоровна. — Если бы я была счастлива, но я
так несчастна!
— Да, да, вы очень несчастны! — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь,
чтобы не заплакать. — И вас ожидает в будущем страшное горе! Одинокая старость,
болезни, а потом ответ на страшном судилище… Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба
протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее
венчайтесь!
— Да, надо, надо, — сказала Надежда Федоровна, — но это невозможно!
— Почему же?
— Невозможно! О, если б вы знали!