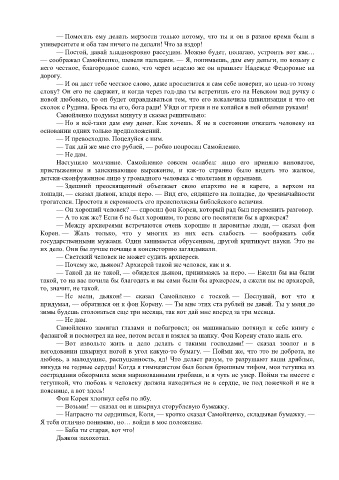Page 32 - Дуэль
P. 32
— Помогать ему делать мерзости только потому, что ты и он в разное время были в
университете и оба там ничего не делали! Что за вздор!
— Постой, давай хладнокровно рассудим. Можно будет, полагаю, устроить вот как…
— соображал Самойленко, шевеля пальцами. — Я, понимаешь, дам ему деньги, но возьму с
него честное, благородное слово, что через неделю же он пришлет Надежде Федоровне на
дорогу.
— И он даст тебе честное слово, даже прослезится и сам себе поверит, но цена-то этому
слову? Он его не сдержит, и когда через год-два ты встретишь его на Невском под ручку с
новой любовью, то он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он
сколок с Рудина. Брось ты его, бога ради! Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками!
Самойленко подумал минуту и сказал решительно:
— Но я всё-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на
основании одних только предположений.
— И превосходно. Поцелуйся с ним.
— Так дай же мне сто рублей, — робко попросил Самойленко.
— Не дам.
Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел: лицо его приняло виноватое,
пристыженное и заискивающее выражение, и как-то странно было видеть это жалкое,
детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами.
— Здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, а верхом на
лошади, — сказал дьякон, кладя перо. — Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности
трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия.
— Он хороший человек? — спросил фон Корен, который рад был переменить разговор.
— А то как же? Если б не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиерея?
— Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди, — сказал фон
Корен. — Жаль только, что у многих из них есть слабость — воображать себя
государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не
их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали.
— Светский человек не может судить архиереев.
— Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я.
— Такой да не такой, — обиделся дьякон, принимаясь за перо. — Ежели бы вы были
такой, то на вас почила бы благодать и вы сами были бы архиереем, а ежели вы не архиерей,
то, значит, не такой.
— Не мели, дьякон! — сказал Самойленко с тоской. — Послушай, вот что я
придумал, — обратился он к фон Корену. — Ты мне этих ста рублей не давай. Ты у меня до
зимы будешь столоваться еще три месяца, так вот дай мне вперед за три месяца.
— Не дам.
Самойленко замигал глазами и побагровел; он машинально потянул к себе книгу с
фалангой и посмотрел на нее, потом встал и взялся за шапку. Фон Корену стало жаль его.
— Вот извольте жить и дело делать с такими господами! — сказал зоолог и в
негодовании швырнул ногой в угол какую-то бумагу. — Пойми же, что это не доброта, не
любовь, а малодушие, распущенность, яд! Что делает разум, то разрушают ваши дряблые,
никуда не годные сердца! Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из
сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты вместе с
тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в
пояснице, а вот здесь!
Фон Корен хлопнул себя по лбу.
— Возьми! — сказал он и швырнул сторублевую бумажку.
— Напрасно ты сердишься, Коля, — кротко сказал Самойленко, складывая бумажку. —
Я тебя отлично понимаю, но… войди в мое положение.
— Баба ты старая, вот что!
Дьякон захохотал.