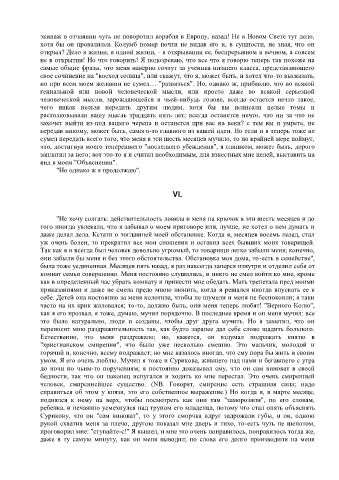Page 219 - Идиот
P. 219
экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад! Не в Новом Свете тут дело,
хотя бы он провалился. Колумб помер почти не видав его и, в сущности, не зная, что он
открыл? Дело в жизни, в одной жизни, - в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем
не в открытии! Но что говорить! Я подозреваю, что все что я говорю теперь так похоже на
самые общие фразы, что меня наверно сочтут за ученика низшего класса, представляющего
свое сочинение на "восход солнца", или скажут, что я, может быть, и хотел что-то высказать,
но при всем моем желании не сумел… "развиться". Но, однако ж, прибавлю, что во всякой
гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной
человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое,
чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали целые томы и
растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда останется нечто, что ни за что не
захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас на веки? с тем вы и умрете, не
передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи. Но если и я теперь тоже не
сумел передать всего того, что меня в эти шесть месяцев мучило, то по крайней мере поймут,
что, достигнув моего теперешнего "последнего убеждения", я слишком, может быть, дорого
заплатил за него; вот это-то я и считал необходимым, для известных мне целей, выставить на
вид в моем "Объяснении".
"Но однако ж я продолжаю".
VI.
"Не хочу солгать: действительность ловила и меня на крючок в эти шесть месяцев и до
того иногда увлекала, что я забывал о моем приговоре или, лучше, не хотел о нем думать и
даже делал дела. Кстати о тогдашней моей обстановке. Когда я, месяцев восемь назад, стал
уж очень болен, то прекратил все мои сношения и оставил всех бывших моих товарищей.
Так как я и всегда был человек довольно угрюмый, то товарищи легко забыли меня; конечно,
они забыли бы меня и без этого обстоятельства. Обстановка моя дома, то-есть в семействе",
была тоже уединенная. Месяцев пять назад, я раз навсегда заперся изнутри и отделил себя от
комнат семьи совершенно. Меня постоянно слушались, и никто не смел войти ко мне, кроме
как в определенный час убрать комнату и принести мне обедать. Мать трепетала пред моими
приказаниями и даже не смела предо мною нюнить, когда я решался иногда впускать ее к
себе. Детей она постоянно за меня колотила, чтобы не шумели и меня не беспокоили; я таки
часто на их крик жаловался; то-то, должно быть, они меня теперь любят! "Верного Колю",
как я его прозвал, я тоже, думаю, мучил порядочно. В последнее время и он меня мучил: все
это было натурально, люди и созданы, чтобы друг друга мучить. Но я заметил, что он
переносит мою раздражительность так, как будто заранее дал себе слово щадить больного.
Естественно, это меня раздражало; но, кажется, он вздумал подражать князю в
"христианском смирении", что было уже несколько смешно. Это мальчик, молодой и
горячий и, конечно, всему подражает; но мне казалось иногда, что ему пора бы жить и своим
умом. Я его очень люблю. Мучил я тоже и Сурикова, жившего над нами и бегавшего с утра
до ночи по чьим-то поручениям; я постоянно доказывал ему, что он сам виноват в своей
бедности, так что он наконец испугался и ходить ко мне перестал. Это очень смиренный
человек, смиреннейшее существо. (NB. Говорят, смирение есть страшная сила; надо
справиться об этом у князя, это его собственное выражение.) Но когда я, в марте месяце,
поднялся к нему на верх, чтобы посмотреть как они там "заморозили", по его словам,
ребенка, и нечаянно усмехнулся над трупом его младенца, потому что стал опять объяснять
Сурикову, что он "сам виноват", то у этого сморчка вдруг задрожали губы, и он, одною
рукой схватив меня за плечо, другою показал мне дверь и тихо, то-есть чуть не шепотом,
проговорил мне: "ступайте-с!" Я вышел, и мне это очень понравилось, понравилось тогда же,
даже в ту самую минуту, как он меня выводил; но слова его долго производили на меня