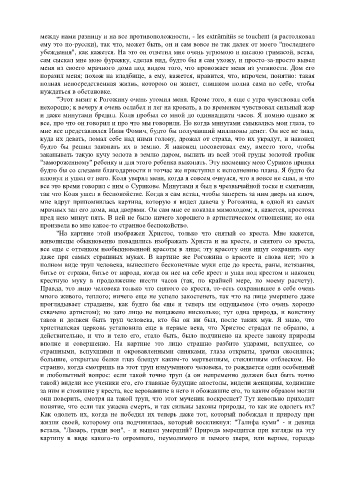Page 226 - Идиот
P. 226
между нами разницу и на все противоположности, - les extrйmitйs se touchent (я растолковал
ему это по-русски), так что, может быть, он и сам вовсе не так далек от моего "последнего
убеждения", как кажется. На это он ответил мне очень угрюмою и кислою гримасой, встал,
сам сыскал мне мою фуражку, сделав вид, будто бы я сам ухожу, и просто-за-просто вывел
меня из своего мрачного дома под видом того, что провожает меня из учтивости. Дом его
поразил меня; похож на кладбище, а ему, кажется, нравится, что, впрочем, понятно: такая
полная непосредственная жизнь, которою он живет, слишком полна сама по себе, чтобы
нуждаться в обстановке.
"Этот визит к Рогожину очень утомил меня. Кроме того, я еще с утра чувствовал себя
нехорошо; к вечеру я очень ослабел и лег на кровать, а по временам чувствовал сильный жар
и даже минутами бредил. Коля пробыл со мной до одиннадцати часов. Я помню однако ж
все, про что он говорил и про что мы говорили. Но когда минутами смыкались мои глаза, то
мне все представлялся Иван Фомич, будто бы получавший миллионы денег. Он все не знал,
куда их девать, ломал себе над ними голову, дрожал от страха, что их украдут, и наконец
будто бы решил закопать их в землю. Я наконец посоветовал ему, вместо того, чтобы
закапывать такую кучу золота в землю даром, вылить из всей этой груды золотой гробик
"замороженному" ребенку и для этого ребенка выкопать. Эту насмешку мою Суриков принял
будто бы со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я будто бы
плюнул и ушел от него. Коля уверял меня, когда я совсем очнулся, что я вовсе не спал, и что
все это время говорил с ним о Сурикове. Минутами я был в чрезвычайной тоске и смятении,
так что Коля ушел в беспокойстве. Когда я сам встал, чтобы запереть за ним дверь на ключ,
мне вдруг припомнилась картина, которую я видел давеча у Рогожина, в одной из самых
мрачных зал его дома, над дверями. Он сам мне ее показал мимоходом; я, кажется, простоял
пред нею минут пять. В ней не было ничего хорошего в артистическом отношении; но она
произвела во мне какое-то странное беспокойство.
"На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется,
живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста,
все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут сохранить ему
даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет; это в
полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания,
битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом и наконец
крестную муку в продолжение шести часов (так, по крайней мере, по моему расчету).
Правда, это лицо человека только что снятого со креста, то-есть сохранившее в себе очень
много живого, теплого; ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже
проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо
схвачено артистом); но зато лицо не пощажено нисколько; тут одна природа, и воистину
таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что
христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а
действительно, и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы
вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со
страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились;
большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но
странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный
и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно
такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие
за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли
они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит
понятие, что если так ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их?
Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при
жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул: "Талифа куми" - и девица
встала, "Лазарь, гряди вон", - и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту
картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо