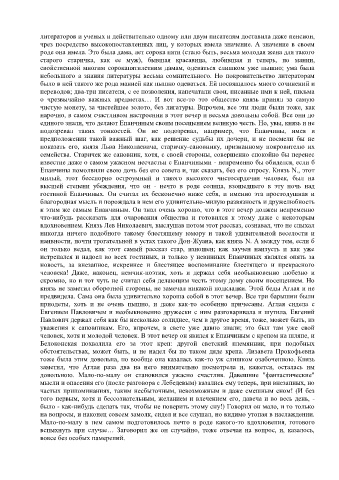Page 298 - Идиот
P. 298
литераторов и ученых и действительно одному или двум писателям доставила даже пенсион,
чрез посредство высокопоставленных лиц, у которых имела значение. А значение в своем
роде она имела. Это была дама, лет сорока пяти (стало быть, весьма молодая жена для такого
старого старичка, как ее муж), бывшая красавица, любившая и теперь, по мании,
свойственной многим сорокапятилетним дамам, одеваться слишком уже пышно; ума была
небольшого а знания литературы весьма сомнительного. Но покровительство литераторам
было в ней такого же рода манией как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и
переводов; два-три писателя, с ее позволения, напечатали свои, писанные ими к ней, письма
о чрезвычайно важных предметах… И вот все-то это общество князь принял за самую
чистую монету, за чистейшее золото, без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как
нарочно, в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до
единого знали, что делают Епанчиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не
подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Епанчины, имея в
предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не
показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их
семейства. Старичек же сановник, хотя, с своей стороны, совершенно спокойно бы перенес
известие даже о самом ужасном несчастьи с Епанчиными - непременно бы обиделся, если б
Епанчины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь N., этот
милый, этот бесспорно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на
высшей степени убеждения, что он - нечто в роде солнца, взошедшего в эту ночь над
гостиной Епанчиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и
благородная мысль и порождала в нем его удивительно-милую развязность и дружелюбность
к этим же самым Епанчиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно
что-нибудь рассказать для очарования общества и готовился к этому даже с некоторым
вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал
никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и
наивности, почти трогательной в устах такого Дон-Жуана, как князь N. А между тем, если б
он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен; как заучен наизусть и как уже
истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных Епанчиных являлся опять за
новость, за внезапное, искреннее и блестящее воспоминание блестящего и прекрасного
человека! Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и
скромно, но и тот чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но
князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки. Этой беды Аглая и не
предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были
приодеты, хоть и не очень пышно, и даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с
Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений
Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из
уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали; это был там уже свой
человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к Епанчиным с крепом на шляпе, и
Белоконская похвалила его за этот креп: другой светский племянник, при подобных
обстоятельствах, может быть, и не надел бы по таком дяде крепа. Лизавета Прокофьевна
тоже была этим довольна, но вообще она казалась как-то уж слишком озабоченною. Князь
заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им
довольною. Мало-по-малу он становился ужасно счастлив. Давешние "фантастические"
мысли и опасения его (после разговора с Лебедевым) казались ему теперь, при внезапных, но
частых припоминаниях, таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном! (И без
того первым, хотя и бессознательным, желанием и влечением его, давеча и во весь день, -
было - как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну!) Говорил он мало, и то только
на вопросы, и наконец совсем замолк, сидел и все слушал, но видимо утопая в наслаждении.
Мало-по-малу в нем самом подготовилось нечто в роде какого-то вдохновения, готового
вспыхнуть при случае… Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и, казалось,
вовсе без особых намерений.