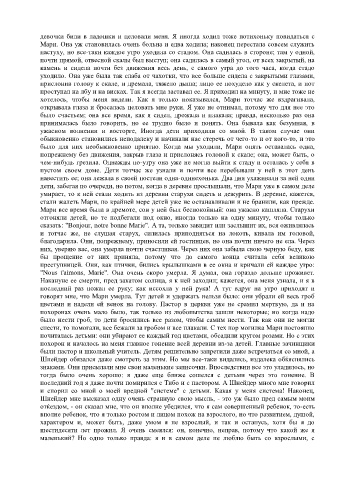Page 40 - Идиот
P. 40
девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с
Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила; наконец перестала совсем служить
пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной,
почти прямой, отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, от всех закрытый, на
камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо
уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами,
прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело как у скелета, и пот
проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не
хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала,
открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это
было счастьем; она все время, как я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она
принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в
ужасном волнении и восторге, Иногда дети приходили со мной. В таком случае они
обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это
было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна,
попрежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале; она, может быть, о
чем-нибудь грезила. Однажды по-утру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в
пустом своем доме. Дети тотчас же узнали и почти все перебывали у ней в этот день
навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинехонька. Два дня ухаживали за ней одни
дети, забегая по очереди, но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле
умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи сидеть и дежурить. В деревне, кажется,
стали жалеть Мари, по крайней мере детей уже не останавливали и не бранили, как прежде.
Мари все время была в дремоте, сон у ней был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи
отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только
сказать: "Bonjour, notre bonne Marie". А та, только завидит или заслышит их, вся оживлялась
и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой,
благодарила. Они, попрежнему, приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через
них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как
бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою
преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро:
"Nous t'aimons, Marie". Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет.
Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в
последний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука! А тут вдруг на утро приходят и
говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб
цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на
похоронах очень мало было, так только из любопытства зашли некоторые; но когда надо
было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли
снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно
почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих
похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики
были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а
Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки видались, издалека обќяснялись
знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии все это уладилось, но
тогда было очень хорошо: я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В
последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил
и спорил со мной о моей вредной "системе" с детьми. Какая у меня система! Наконец,
Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, - это уж было пред самым моим
отќездом, - он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то-есть
вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой,
характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до
шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, неправ, потому что какой же я
маленький? Но одно только правда: я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с