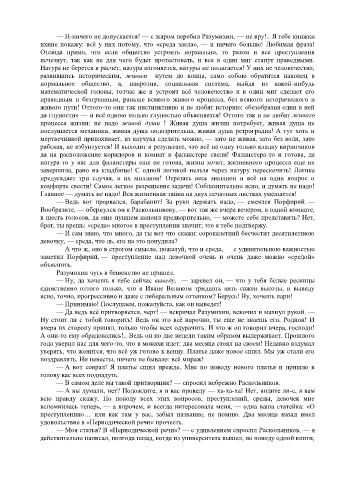Page 151 - Преступление и наказание
P. 151
— Н-ничего не допускается! — с жаром перебил Разумихин, — не вру!.. Я тебе книжки
ихние покажу: всё у них потому, что «среда заела», — и ничего больше! Любимая фраза!
Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления
исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными.
Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество,
развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в
нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь
математической головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его
праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и
живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: «безобразия одни в ней
да глупости» — и всё одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят живого
процесса жизни: не надо живой души ! Живая душа жизни потребует, живая душа не
послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тут хоть и
мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато
рабская, не взбунтуется! И выходит в результате, что всё на одну только кладку кирпичиков
да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели! Фаланстера-то и готова, да
натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, жизненного процесса еще не
завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика
предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о
комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо!
Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!
— Ведь вот прорвался, барабанит! За руки держать надо, — смеялся Порфирий. —
Вообразите, — обернулся он к Раскольникову, — вот так же вчера вечером, в одной комнате,
в шесть голосов, да еще пуншем напоил предварительно, — можете себе представить? Нет,
брат, ты врешь: «среда» многое в преступлении значит; это я тебе подтвержу.
— И сам знаю, что много, да ты вот что скажи: сорокалетний бесчестит десятилетнюю
девочку, — среда, что ль, его на это понудила?
— А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда, — с удивительною важностью
заметил Порфирий, — преступление над девочкой очень и очень даже можно «средой»
объяснить.
Разумихин чуть в бешенство не пришел.
— Ну, да хочешь я тебе сейчас выведу, — заревел он, — что у тебя белые ресницы
единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу
ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? Берусь! Ну, хочешь пари!
— Принимаю! Послушаем, пожалуйста, как он выведет!
— Да ведь всё притворяется, черт! — вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. —
Ну стоит ли с тобой говорить! Ведь он это всё нарочно, ты еще не знаешь его, Родион! И
вчера их сторону принял, только чтобы всех одурачить. И что ж он говорил вчера, господи!
А они-то ему обрадовались!.. Ведь он по две недели таким образом выдерживает. Прошлого
года уверил нас для чего-то, что в монахи идет: два месяца стоял на своем! Недавно вздумал
уверять, что женится, что всё уж готово к венцу. Платье даже новое сшил. Мы уж стали его
поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало: всё мираж!
— А вот соврал! Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья и пришло в
голову вас всех поднадуть.
— В самом деле вы такой притворщик? — спросил небрежно Раскольников.
— А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу — ха-ха-ха! Нет, видите ли-с, я вам
всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений, среды, девочек мне
вспомнилась теперь, — а впрочем, и всегда интересовала меня, — одна ваша статейка: «О
преступлении»… или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел
удовольствие в «Периодической речи» прочесть.
— Моя статья? В «Периодической речи»? — с удивлением спросил Раскольников, — я
действительно написал, полгода назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги,